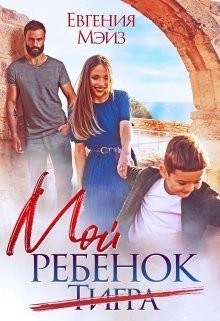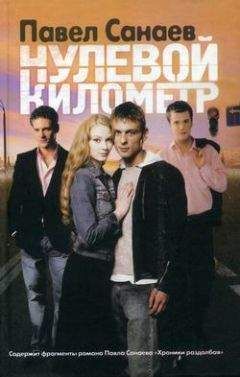- Юлька, — только голос остался прежним, пусть и тихий, надломленный. Порывисто протягивает руку, желая меня коснуться, но я и шага не делаю к ней навстречу — пусть лучше так, на расстоянии нескольких метров, ведь то время, когда я мечтала оказаться в ее объятьях осталось далеко позади.
- Неужели ты?
- Я, — киваю, и забрасываю ногу на ногу. Пусть любуется, я для нее лучшее платье надела. Ведь что это, если не триумф? Меня погнали в шею, выставили за дверь, обрекая на жизнь в выгребной яме, а кто сейчас на коне?
- Витаминов тебе принесла. Если зубы еще не все потеряла, можешь лопать.
Краска смущения наверняка заливает лицо, только синяки не дают мне ее разглядеть. Мама поджимает губы, но тут же болезненно морщится, ведь дорогой муж знатно потрудился, одаривая ее своими своеобразными поцелуями.
- Как там…
- Жора? — перебиваю, насмешливо приподнимая бровь, и ощущаю как в сердце вонзается острая игла, ведь неудачно пошутив, я попала в самую точку. Нет до детей Лиде Голубевой никакого дела! Права была Ленка, как в воду глядела!
- А черт его знает! Я не настолько по нему скучаю, чтобы передачки носить.
- Юля…
- Но, если хочешь, — вновь беру в руки пакет с цитрусовыми и нервно покачиваю ногой, закипая от негодования, — могу эти апельсины ему передать. Это, конечно, не твои рыбные котлетки, но тут главное внимание. Пусть знает, что недостаточно хорошо тебя отделал, раз ты до сих пор за него переживаешь!
Думаете, мне ее жаль? Думаете, сердце рвется из груди от того, как слезы капают из ее глаз на больничную сорочку? Черта с два! Мне Ярика жаль, что в отличие от остальных, лишь храбрится, делая вид, что не видит в случившемся ничего страшного! Носит в себе горькие мысли о том, что мог лишиться матери, и долго мнется у лотка с фруктами, желая выбрать для нее лучшие. Лену жаль, что добровольно отказалась от игр, спрятавшись за учебниками, ведь баловство чревато — армейский ремень у Голубева всегда наготове. Да и лучше уж чтение, с этими вымышленными мирами, людьми, что пострадав, непременно обретают счастье, чем вечная ругань и пустые бутылки под раковинной. А Айгуль? Боже! Она ведь, как маленький зверек, что случайно попал в лес с дикими хищниками! Прячется в шкафу и разговаривает с котом, который в ответ никогда не обругает!
- Что же с тобой, Лида? — намеренно обращаюсь по имени, ведь называть ее матерью неправильно. Противоестественно. - Почему ты такая? Сотни женщин мечтают о детях, а ты… Чем он лучше их?
- Глупости какие, — теряется и беспокойно бегает глазами по палате, избегая смотреть на меня. Три года не видела, а первым делом спросила о том, кто выписал ей путевку в этот “санаторий”. - Не понимаю о чем ты…
- О том, что Богдан всю ночь нам спать не давал. Плакал, все маму звал. Ему ведь не объяснишь, что нет у него мамы и не было никогда.
Грубо, но чтобы отозваться на мою речь обидой, нужно иметь в груди сердце. А у нее пустота… Впрочем, нет. Что-то да есть, только места в нем так мало, что только Голубев и поместился.
- Артур не ест ничего, кроме конфет. Я думала, у вас это норма, а он, оказывается, лопает их от жадности, ведь раньше шоколад только по праздникам получал, — теперь и сама отворачиваюсь, потому что своих слез ей видеть не дам. Жалость меня так и душит, наверное, годами ждала, когда появится возможность продемонстрировать, что в моем загашнике и такое имеется.
- Не женщина ты, Лида. Таких как ты стерилизовать надо, чтобы ничто не отвлекало от любимого занятия — по койкам прыгать, да за мужиками хвостом ходить. И не жаль тебя, — встаю, надменно окинув ее сжавшуюся под одеялом фигуру, и разглаживаю складки на юбке. - Пусть бьет, тебе наверняка за радость: ведь бьет, значит, любит, верно?
- Чтобы ты понимала, — и фраза знакомая, и интонация. Приподнимается на постели, удерживая на весу загипсованную руку, и с обидой выплевывает обвинения:
- Ты ведь сухарь Юлька! Чувствовать не умеешь, только себя и любишь! И сюда приехала не для того, чтобы семье помочь, а чтобы мне показать, что оказалась куда успешнее! Только в чем твой успех-то? Мужа чужого охомутала и теперь цацками хвастаешься?
- А даже если и так, что с того? Тебя твоя любовь до больничной койки довела, моя — к деньгам — меня раз в полгода на Мальдивы вывозит. А вот чувствовать я умею, и прямо сейчас меня так и распирает. Знаешь, какие это чувства, Лида?
- Мама! Перестать уже Лидой меня называть!
- Ненависть. Вот смотрю на тебя и так люто ненавижу, что даже стою рядом с тобой с трудом! За детство, что ты отобрала, за семью, которую так мне и не дала, за это, — указываю пальцем на ее кровать, — ведь даже променяв меня на горе любовника, ты умудрилась испортить мне жизнь. Я здесь застряла, и вынуждена спать среди вони и грязи, потому что ты даже как хозяйка не состоялась. Гори в аду, Лида, тем более что персональный черт у тебя уже есть. За ним дело не постоит — отсидит и с новыми силами будет тебе свою любовь доказать.
– Как ты можешь меня судить? Сначала жизнь мою проживи, а потом разглагольствуй! Думаешь, мне хочется встретить старость в одиночестве?
– Тебе это не грозит – у тебя пятеро детей, впрочем, с таким отношением ты рискуешь и их потерять, – одной вот уже лишилась. Только жалеет ли? Вряд ли.
– Дети ведь вырастают, Юлька. Свои семьи создают. А Жора… у него все беды от водки. А так ведь мужик неплохой.
– Неплохой? – холодею, теперь всерьез опасаясь за ее голову – он ей вконец мозги отбил? – Он твоих детей лупит! Разве хороший человек на такое способен?
– За дело, – не сдается Лида, упрямо поджимая губы, а я настолько ошеломлена, что вновь опускаюсь на стул. Она обречена. Увязла по самое горло, и даже не планирует хвататься за спасательный круг – и себя губит, и ребят, не оставляя им шанса на счастливое детство. Что дальше? Оправится и пойдет выручать Голубева из лап правосудия? С прежней прытью станет нарезать вокруг него круги, сдувать с пылинки и терпеливо ждать, когда же он нанесет ей последний удар?
– Ты больна, Лида, – почти шепчу, больше всего на свете мечтая умчаться прочь из этой палаты. Подальше от сумасшедшей, чьи ориентиры окончательно сбились. – И, боюсь, тебя уже не спасти.
Поднимаюсь, с трудом волоча ноги к выходу, и лишь выбравшись на улицу, восстанавливаю дыхание: воздух обжигает легкие, а глаза пощипывает от непролитых слез.
Устраиваюсь на лавку и прячу лицо в ладонях. Каким бы черствым человеком я ни была, лишний раз убедиться в своей правоте больно – она никогда меня не любила. Ни меня, ни детей, которым лишь предстоит узнать, насколько неправильная мать им досталась.
Не знаю, сколько я так сижу, и не знаю, с чего люди решили, что выплакавшись, человек почувствует облегчение. Ведь легче мне так и не становится – я бессильна. Не могу достучаться в эти закрытые двери, хоть кулачки мои уже саднит от настойчивого постукивания.
– Возьми, – вижу перед собой бумажный платок и даже не думаю поворачиваться, когда Бирюков устраивается рядом. Подбираюсь, быстро стирая влагу со щек, и шмыгаю носом, стыдясь своего состояния. Размазня! Рыдаю на глазах у прохожих, и что самое страшное, на виду у Максима, что так не вовремя подъехал за мной к больнице.
– Ничего зазорного в этом нет, – словно почувствовав мое настроение, мужчина щелкает зажигалкой, и я без труда улавливаю запах табака, что тлеет в его руках. – Здесь слезами никого не удивишь.
Говорит со знанием дела, и стоит мне повернуться, добавляет:
– У каждого свои семейные тайны.
– Это точно.
О его драме я и расспрашивать не буду: кто он мне? Друг? Определенно нет. А вот в проблемы моей семьи не заглядывал только ленивый, ведь весь двор на ушах стоит, гадая, чем же закончится очередная стычка в квартире номер семнадцать.
– Поправится она, и дети к тебе привыкнут.
– Откуда знаешь?
– Чувствую. У них ведь выбора нет: ты с них живых не слезешь, – поддевает меня плечом и улыбается шире, когда в ответ на его слова я вяло посмеиваюсь. Вновь предлагает мне салфетку, и прячет пачку в карман, когда я отрицательно качаю головой.