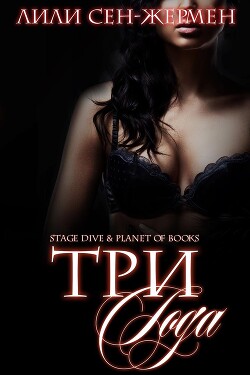Спустя несколько часов я понимаю, что приближается ночь. Воздух вокруг меня из густого и душного стал слегка прохладным, заставляя меня сильно дрожать от влаги собственной крови. Мне приходится отдирать пропитанное кровью полотенце от живота. Я опускаю взгляд и лучше бы не делала этого. Вся моя левая сторона — это месиво из крови и кусков разорванной плоти.
Изрубленная — единственное слово, которое могло бы точно описать то, что он со мной сделал. Он эффективно вырезал верхние слои моей кожи, так что не осталось и следа чернил.
Выглядит ужасно. Чем дольше я смотрю на рану, тем больнее становится. Задаюсь вопросом, как она вообще заживет, если там не осталось кожи, чтобы срастись, но потом вспоминаю, что ей не нужно заживать, потому что я скоро умру.
В какой-то момент я отключаюсь, потому что, когда прихожу в себя, вижу поднос с едой, скользящий ко мне по полу, и быстро захлопнувшуюся за ним дверь.
Шанс сбежать, а я была чертовски медленной, чтобы даже открыть глаза.
Слишком чертовски медленной, чтобы даже попытаться. Какая я жалкая.
С интересом рассматриваю поднос с едой; я внезапно вспоминаю об изнурительном перелете в Таиланд на операцию. Внутренне я съеживаюсь, осознавая, что это было всего несколько месяцев назад, а теперь сижу в камере смерти и жду, когда Жнец заберет меня.
Клаустрофобия, которую я испытала во время того долгого перелета, похоже на то, что переживаю сейчас. Принесли только дерьмовую еду за все эти долгие часы. Мне некомфортно, я не контролирую ситуацию и просто хочу прервать эту поездку.
Подползаю к металлическому подносу и рассматриваю сегодняшнее содержимое. Сэндвич, приготовленный из сухого хлеба и мясной нарезки, маленькое красное яблоко и стакан воды, используемый в качестве импровизированной вазы, в которой стоит букет самых сильно пахнущих цветов, которые я когда-либо встречала. Я не прикасаюсь к цветам, несмотря на то, насколько они красивы, с длинными тонкими зелеными стеблями и свисающими вниз кистями крошечных белых колоколообразных соцветий. Я тяжело сглатываю, гадая, какое послание пытается передать Дорнан, включив в него преднамеренный жест, предназначенный для влюбленных и скорбящих.
Тщательно осмотрев, я хватаю один из треугольников и пожираю его. Сначала пытаюсь есть медленно, но не могу. Я умираю с голоду, и этот один прием пищи в день едва меня поддерживает. Кроме того, боюсь, что, если буду есть слишком долго, кто-нибудь может прийти и отобрать у меня еду до того, как я закончу.
Как только еда попадает в желудок, меня охватывает волна тошноты. Спешу к ведру в углу комнаты, и меня мучительно рвет, отторгая все, что я только что съела. Во рту появляется странный металлический привкус. Отчаяние и голод усиливаются с последним куском еды, покинувшим мой желудок, а на глаза накатывают свежие слезы.
Яд. Он, черт возьми, отравляет мою еду.
Я умираю от голода и смотрю на вторую половину сэндвича одновременно с отчаянием и потребностью. Я хочу его съесть. Хочу сожрать. Я голодна, и мне нужно чем-нибудь наполнить свой пустой желудок. Но не тем, что вызовет у меня рвоту.
Сижу на полу, прижавшись к стене напротив двери. Наблюдаю. Жду. Смотрю на половину сэндвича. Казалось бы, безобидное яблоко, в котором, вероятно, полно личинок. Стакан с водой, в который погружены стебли очень ядовитого цветка. Он травит меня.
Наконец, я больше не могу этого терпеть. Бросаюсь на вторую половину сэндвича, запихиваю ее в рот так быстро, как только могу, не в силах остановиться, хотя знаю, что конечным результатом, скорее всего, будет еще большая рвота и последующий голод.
Я начинаю уговаривать саму себя, что мне нужна пища, даже если она отравлена. Мне нужно есть, иначе я умру. Прижимаюсь спиной к стене и неловко задыхаюсь, когда во мне поднимается новая тошнота, жгучая, как кислота.
«Держись, держись».
Наконец, спустя, казалось бы, целую вечность, желание открыть рот и все выблевать постепенно утихает. Мой желудок все еще бурлит, но еда перестает пытаться вырваться наружу.
Я сижу и жду, кажется, несколько часов. Не уверена чего.
Возможно, смерти.
И, в конце концов, смерть возвращается с ножом в его руках. Я неуверенно поднимаюсь на ноги, чувствуя себя хрупкой и легкой, как перышко, словно могу рухнуть, если он подует на меня. Дорнан улыбается, наблюдая, как я шатаюсь на ногах.
— Красивые цветы, — фыркаю я. — Ты думаешь, я слишком глупа, чтобы понять, что они, бл*ть, ядовиты?
Он игнорирует мои слова.
— Я пытался быть романтичным, Джули. Ты моя девушка, разве нет?
Мужчина играет с лезвием в руках, тем самым тонким выкидным ножом, который он воткнул мне в бедро несколько месяцев назад, когда думал, что я девушка по имени Сэмми.
Я вздрагиваю.
— Что ты добавил в еду?
Его улыбка сменяется раздражением; хмурый взгляд и ухмылка — все в одном.
— Это не сработает, Джули. Не пытайся отвлечь меня. Ты уже должна это знать.
Я фыркаю: разговор отнимает столько энергии, что его почти невозможно вынести.
— Ты положил туда что-то, от чего меня тошнило. Почему бы тебе просто уже не убить меня? — смотрю на клинок в его руке. — Тебе это не надоело? — шепчу я.
Он не отвечает, просто смотрит на меня своими черными глазами, которые так болезненно напоминают мне другие глаза. Джейса. Я отбрасываю мысли о его прекрасном лице. Потому что мне слишком больно даже думать о нем.
Я больше никогда его не увижу.
Делаю неуверенный шаг к Дорнану и его клинку, мои ноги дрожат от прилагаемых усилий.
Он не отступает. Не останавливает меня. Думаю, в этот момент он знает, что я не смогу одолеть его, не смогу перехитрить, не смогу пройти мимо него. Я ничего не могу с ним сделать, что могло бы заставить его волноваться.
Я медленно поднимаю руку и обхватываю пальцами кулак — тот, что сжимает выкидной нож.
— Ты мог бы сделать это сейчас. Перережь мне горло.
Я не хочу умирать. Не призываю его нажать на пресловутый спусковой крючок и разбрызгать мои мозги об стену из-за какой-либо храбрости или неуважения к моей жизни.
Просто хочу, чтобы мучения закончились.
Веселье растекается по его лицу, когда он свободной рукой высвобождает свой кулак их моих пальцев.
— Я не устал, — говорит он, посмеиваясь. — Ты действительно думаешь, что уже достаточно страдала?
Думаю о том, когда начались мои страдания, о семи шрамах, которые теперь исчезли с моей плоти, о жжении, агонии и печали от всего этого.
— Да, — говорю я. — Да.
— Ну, я не согласен, — говорит он. — На самом деле, я думаю, что мы только начали.
Гнев переполняет мою грудь, и я огрызаюсь.
— Ты меня отравляешь? — визжу я. — Ты, черт возьми, меня отравляешь? — решительно указываю на ведро с рвотой в углу. — Ты трус. Используй свои руки. Используй нож. Только трус станет отравлять своего гребаного пленника.
Он протягивает руку и тыкает пальцем мне в грудь, заставляя меня отступить назад, пока моя спина не оказывается у стены.
— Я скажу тебе, почему тебя тошнит, — говорит он. — Дело не в сэндвичах, малышка. Это яд внутри тебя. Это души моих сыновей разрывают тебя на части.
Он ухмыляется, его слова бессмысленны, но, тем не менее, звучат тревожно. Я вздрагиваю, представляя, как черви, похожие на Чада, Макси и остальную компанию, ползают по моим венам, как мутный сироп. Черные и токсичные прожигают мои вены, пока я не превращаюсь в кровоточащий, зараженный труп.
— Это сыновья, которых я уже убила? — снова огрызаюсь. — Или те, которых только собираюсь?
Его широкая улыбка дергается, и вдруг я понимаю, что смертельно устала от этого танца, который мы исполняем последние несколько недель. Так чертовски устала от всего.
— Если ты собираешься отравить меня до смерти, то можешь просто застрелить меня, — говорю я устало, прежде чем успеваю остановиться.
Иисус Христос! Мне хочется зажать рот рукой, встряхнуть себя за плечи. Что со мной не так? Я сильная, я нерушимая, я олицетворение мести. И все же прошу своего врага поторопиться и уже пристрелить меня.