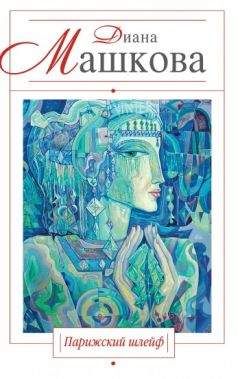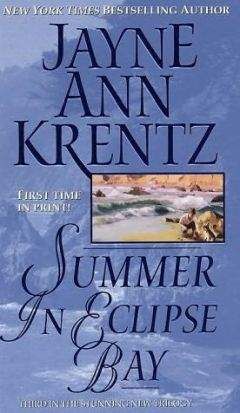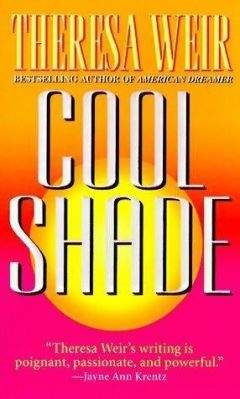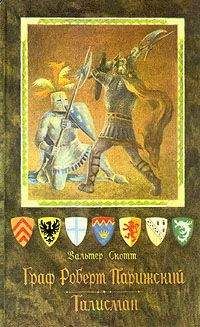Подходил к концу четвертый день конференции – Настя выступала одной из последних. Все это время в Париже она просидела на жестком стуле конференц-зала или на кровати в крошечной комнатке студенческого общежития. Девушка так слезно просила Марию Степановну, чтобы ее поселили одну, что та не сумела отказать и обратилась к администрации университета с просьбой, которая была удовлетворена. Правда, эта угловая комнатенка была больше похожа на конуру, и ее окно выходило на глухую стену, но Настя осталась довольна. Лишь бы не видеть других людей, не общаться с ними. У нее не было сил говорить или смеяться, она физически не переносила теперь, когда кто-то пытался нарушить ее личное пространство и приблизиться хотя бы на расстояние вытянутой руки. Неважно, по собственной воле или случайно. И не потому, что, как прежде, относилась к людям с пренебрежением, считала их недостойными. Нет. Теперь она до умопомрачения боялась всех вокруг и ненавидела себя. Ее пугал шорох в коридоре, обращенные на нее лица, взгляды. Настя чувствовала себя инфицированной какой-то жуткой болезнью, несовместимой с жизнью: ей казалось, что грязь и омерзение прошлого текут в ее жилах, просвечивают сквозь кожу, что в глазах, как в раскрытой книге, читаются все унизительные сцены, которые ей пришлось пережить. У нее не было ни единого сомнения в том, что каждый, кто хоть раз заглянул в ее лицо, знает (ну, или догадывается) о ее падении, позоре и глупости. Вздрагивая от приветствий знакомых, она едва сдерживалась, чтобы не убежать. А традиционные во Франции поцелуи при встрече вызывали нервную дрожь. Ее тошнило от самой себя, как от переплетенных в единый клубок дождевых червей из ставших постоянными ночных кошмаров.
Московские преподаватели и аспиранты пользовались поездкой в Париж, как и положено, с огромным удовольствием. Кто бегал по магазинам, кто по музеям, кто пропадал с новыми знакомыми в ночных клубах, а после весь день «погибал» засыпая прямо в конференц-зале под монотонный бубнеж докладчиков. Настя не присоединилась ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Бедная Мария Степановна по доброте душевной изо всех сил старалась расшевелить свою сникшую аспирантку, приписывая ее душевные муки неразделенной любви, а про себя отчаянно ругала мерзавца-сердцееда. Но на все ее предложения Настя отвечала виноватой улыбкой и вежливым отказом. Лувру и музею Орсе, Монмартру и Нотр-Дам, Елисейским Полям и Эйфелевой башне она предпочла мрачные стены уродливой комнаты одиночества. Мария Степановна грустно качала головой, но не настаивала – привыкла уважать в человеке свободу выбора.
Умом Настя прекрасно понимала, что зря теряет драгоценное время, что нужно срочно что-то делать: искать объявления в газетах, звонить, опрашивать новых французских знакомых. Но ее убивала уже сама мысль о том, что придется выходить из комнаты, разговаривать с людьми, смотреть на них и позволять им читать ее тайну. Она дрожала от страха и не делала ничего. В голове постоянно вертелись ужасные картины: вот она выходит на дорогу, и все оборачиваются на нее, тычут пальцем, выкрикивают: «Femme damne!»[5]; вот заговаривает с продавцом газет, а тот вдруг поднимает к ней лицо Николая и шепчет: «Ange plein de gaiete, connaissez-vous I'angoisse?»[6]; вот набирает номер телефона, а на том конце ей отвечает с издевкой голос Сергея Сергеевича. Перебирая жуткий калейдоскоп картин, которые возникали перед внутренним взором без устали, без перерыва, Настя то и дело проваливалась в забытье. И тогда ей мерещились огромные дождевые черви, которые свивались в склизкие клубки на ее кровати, в продавленном сиденье стула, на узком письменном столе. Ей снилось, будто она бродит по комнате, что-то ищет, открывает дверцы шкафа, заглядывает в комод и повсюду видит только толстых извивающихся тварей. Она уже понимала, что это сон, и старалась проснуться, но жуткое видение крепко впивалось в нее, не позволяя вырваться из плена. Иногда она по нескольку раз открывала глаза во сне, радовалась пробуждению и через мгновение понимала, что на самом деле сон еще длится. Прежде чем ей удавалось по-настоящему очнуться от горячечного бреда, проходили долгие мучительные часы.
В последний день пребывания в Париже организаторы конференции устраивали банкет. Московские гости приходили в зал на прощальную вечеринку, предварительно собрав чемоданы и выставив их в коридор, – в десять к университету должен был подъехать автобус, чтобы увезти научную делегацию в аэропорт. Настя едва справилась со сборами: весь день с самого утра ее тошнило, голова кружилась, поднялась температура. С трудом удалось облачиться в приготовленный для банкета костюм и, придерживаясь за стену, выйти через длинные серые коридоры на улицу, а потом – узкой тропинкой через зеленую рощицу в главное здание.
Настя уже давно, приезжая по студенческому обмену во Францию, привыкла, что «университетским банкетом» здесь зовется нечто среднее между предельно скромным фуршетом и российским вариантом распития спиртного прямо на улице, во дворе. Огромные двери в конференц-зал были распахнуты, вместо рядов стульев вдоль стен расставили длинные столы, пластиковые кресла расположились прямо на улице. Батареи винных бутылок на столах расцвечивали скудную обстановку, а в качестве закусок в тарелках красовались разноцветные чипсы, орешки и заветренные канапе. Кое-где белели сыры, украшенные виноградом. Одним словом, сами французы после таких вечеринок сломя голову неслись по домам – к холодильнику, а несчастным гостям оставалось уповать на поздний ужин в самолете. Однако гул вокруг всего этого действа стоял внушительный: наши использовали последний на этой конференции шанс обменяться контактами, чтобы позже списаться-сдружиться со счастливыми представителями западного научного мира. Авось повезет, и еще на конференцию пригласят. Или даже со временем, при условии долгого доброго знакомства, предложат работу.
Настя стояла, прислонившись спиной к стене, и с опаской поглядывала на оживленно беседующие группки людей. Она думала только о том, как бы не опозориться при таком скоплении народа, грохнувшись в обморок. В ушах становилось горячо – верный признак приближающегося помутнения рассудка, в глазах начали разбегаться темные круги.
– Настя! – Усилием воли она обернулась на голос научного руководителя и, стараясь не встречаться с ней взглядом, вымученно улыбнулась. – Подойдите, пожалуйста.
Мария Степановна стояла рядом с той самой дамой, которая пожалела ее аспирантку после доклада и великодушно наградила ободряющим «pas mal». Женщины озабоченно смотрели на Настю: вокруг губ у той явно обозначился белый треугольник, взгляд потерял ясность, щеки побледнели. Вот только проблем перед самым отлетом не хватало! Ну, ясно же – девочка сама себя довела, терзаясь постоянными мрачными мыслями из-за какого-то мерзавца. Так и до нервного срыва замучить себя можно!