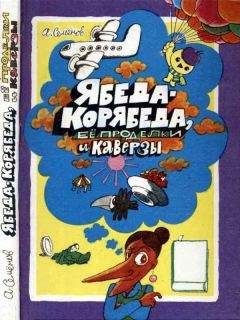— Не видеть тебя в темноте — моё спасение. — Шершавые пальцы Геры тугим кольцом обхватывают мою шею. — И проклятие!
Понимаю, что ещё немного, и я задохнусь.
—Ты моё проклятие, Тая! Моя беда! — жадно выдыхает Савицкий прямо в губы.
— И что это означает? —Мне кажется, что я кричу, но на самом деле едва ворочаю языком.
— Я ненавидел тебя двенадцать лет. Долгих, беспросветных, безжалостных. — Слегка ослабив хватку, Савицкий позволяет мне сделать спасительный вдох, а потом снова сдавливает мою шею грубыми пальцами. — Я двенадцать лет жил мечтой отомстить. Но вот незадача: даже близко не мог к тебе подойти.
Отомстить?! За что?! Что я такого сделала?! Вопросы разрывают сознание, но неспособность говорить вынуждает меня глухо мычать в ответ.
— Темнота развязала мне руки, — не унимается Савицкий. — Никогда я ещё не был так близок к цели!
И снова секундное послабление. Но вместо вдоха отчаянно шепчу:
— Я не боюсь!
— Зря, Тая! — Гера резко встаёт с кровати, нетвердой походкой идёт к окну и, небрежно откинув штору, смотрит в ночную тьму. — Я же псих!
— Не говори так! — Растираю горящую кожу шеи и не раздумывая спрыгиваю с кровати следом за Савицким.
— Уходи! Пока не поздно, уходи! — рычит он, до треска сжимая пластик приоткрытой рамы. Я вижу, что Гера на пределе, но веду себя, как глупый мотылёк, летящий на свет.
— Нет! — Обезумев, ступаю по тонкому льду терпения Савицкого.
— Я сделаю тебе больно. Иначе не могу!
Резко выдохнув отработанный воздух, Гера оборачивается на звук моих шагов. Его плечи напряжены, грудь высоко вздымается от каждого вдоха, а голос пугающим эхом раздаётся в ушах.
— Уходи, Тая! — повторяет Савицкий и вытягивает вперёд руку, выставляя преграду.
— Я не боюсь, — решительно повторяю в ответ и в такт оглушительному биению наших сердец слепо шагаю вперёд.
Глава 9. Моё безумие
У лжи нет возраста.
У боли — срока годности.
Что такое любовь? Доверие, вспышка, безумие, страсть? Спокойствие, уверенность, крылья за спиной? Ревность, страх, прощение?
Не знаю…
Как по мне, так это огромная заноза в сердце, болезненная, но необходимая, без которой жизнь кажется пресной и обыденной, но которая, однажды впившись в самую мякоть, в одночасье меняет весь твой мир, насыщая его такой широкой гаммой противоречивых чувств, что ты перестаёшь себе принадлежать. Говорят, любовь — это зависимость, дурная привычка, от которой не избавиться, наркотик, лишающий воли, стоит лишь однажды вдохнуть его едкий дух полной грудью.
А ещё это эмоции — те, что переполняют до краёв. Когда сердце кулаком об рёбра. Когда душа наизнанку. Когда вопреки всему ты продолжаешь тянуться к парню, что ненавидит тебя больше жизни, к матери, которой нет до тебя дела…
Жить без любви холодно и страшно, даже когда она не взаимная, даже когда безнадёжная. Только любовь робким сиянием прокладывает путь в непроглядной темноте жизни. А ещё… ещё она начисто стирает страхи, прогоняет обиды и растворяет боль.
Наверно, я люблю… Нет, правда! Иначе как объяснить моё безумие?
Я не сбегаю. В сотый раз оставляю без внимания просьбу Савицкого держаться от него подальше, а сама делаю шаг за шагом, проваливаясь в темноту. Подобно Гере вытягиваю вперёд руку и смело переплетаю наши пальцы. Ощущаю знакомую дрожь, сотрясающую тело разрядами в двести двадцать, но не могу разобрать, кто из нас двоих сейчас волнуется больше.
— За что ты меня ненавидишь? — Мой голос срывается в простуженный хрип.
— Зачем ты продолжаешь искать во мне свет? — неровный шёпот соскальзывает с губ Савицкого.
Мы задаём вопросы и сквозь темноту пожираем друг друга взглядом. Шумно дышим и не спешим с ответами. Свет луны нежно ласкает наши лица, играет, подталкивает к точке невозврата. А темнота… темнота прощает всё.
— Я ничего не помню. Мне было шесть! — Крепче цепляюсь за горячую ладонь Геры. Хочу быть ближе. Хочу, чтобы он услышал!
— У лжи нет возраста, Тая! — словами разрывает на части. — У боли — срока годности!
Я благодарна темноте: она усердно скрывает мои слёзы и убаюкивает гордость.
— Да что я такого сделала, Гера?! — Тянусь свободной рукой к отблескам лунного света на колючей щеке парня. Мне нужны ответы!
— Не ты. — Савицкий уворачивается от моего прикосновения и грубо выдёргивает руку. Хватается за голову и слепо смотрит в окно, а я — на его спину, сотрясающуюся от каждого вдоха — тяжёлого, невыносимого.
— Мы оба! — Он губами выпускает порцию пара на прохладное стекло и с грохотом бьёт кулаками по раме.
Я замираю, пытаясь осознать услышанное, но всё мимо: я ничего не понимаю!
— Себя ты тоже ненавидишь? — Переступаю через чёртов страх и снова лечу к обрыву, обхватывая Савицкого за плечи. Кончиками пальцев ощущаю сумасшедшее тепло его напряжённого тела. Своим беспорядочным дыханием упираюсь в мощную спину. И плевать на то, что Гере противны мои прикосновения! Я чувствую: они способны его спасти!
— Ещё больше, чем тебя! — признаётся Савицкий и с силой сжимает мои запястья.
Он не пытается причинить мне боль, нет! Он лишь ищет способ ослабить свою!
— Не прогоняй меня! — Еложу носом по пропитанной потом футболке. — Ненавидь! Презирай! Обвиняй! Только не гони!
— Зачем тебе это? — Савицкий мотает головой, но моих рук не выпускает.
— Я не знаю. — Отчаянно прижимаюсь к нему. — Но иначе уже не хочу! Без тебя не смогу.
— Сможешь! — хмыкает Гера и, наверно, улыбается. — Я просто изъян на повороте твоей судьбы, Тая. Ещё не поздно свернуть и разойтись по разным углам, понимаешь?
— Поздно, Гера! Слишком поздно! — безнадёжно улыбаюсь. Жаль, Савицкий не видит!
— Мы обречены, Тая!
Гера отпускает мои запястья, но даже не думает оборачиваться.
— Нет! — блею наивной овцой.
— Прокляты за свою слабость и ложь! — произносит Савицкий чуть резче.
— Нет! — в ответ повышаю голос.
Меня впервые трясёт куда сильнее, чем Геру, но я упорно продолжаю верить в чудо. До треска скручиваю в кулаках влажную ткань его футболки и сама не понимаю, о чём прошу.
— Мы справимся! Вместе! Пожалуйста!
— Уходи! — безжалостно выдыхает Савицкий.
С первыми лучами солнца плетусь по сонному дому Мещерякова в свою каморку. За спиной оставляю приоткрытую дверь в комнату Геры и тысячу вопросов без ответа. Не вовремя проснувшаяся гордость больно колет тупой иголкой в самое сердце. Теперь я знаю наверняка: любовь — это ещё и испытание, и, похоже, оно мне не по зубам. Ступени тают под ногами, предутренняя тишина окончательно сводит меня с ума. Я силюсь понять себя, собрать мысли воедино и наконец вспомнить, что сделала не так в тот зимний вечер. А потом врываюсь к себе и истерично смеюсь, давясь безудержными слезами: мне было шесть, чёрт побери! Всего шесть!
Как и прежде, моя боль остаётся никем не замеченной, а жизнь с приходом нового дня мчится по накатанной. Пока Гера отсыпается после бессонной ночи, я наспех завтракаю шоколадными хлопьями с молоком и под выдуманным предлогом уезжаю в школу на такси. Правда, на половине пути сворачиваю к реабилитационному центру и до самого вечера нежусь в родных объятиях папы. Рядом с ним я позволяю себе ненадолго забыться. С упоением слушаю его рассказы о местных порядках и задорных медсёстрах, о соседе Юре, который вопреки прогнозам врачей сумел встать на ноги, и боюсь спугнуть своими невесёлыми новостями отцовский настрой, а потому молчу. Не сетую на мать, не упоминаю Турчина с его наездами и даже о том, что прямо сейчас прогуливаю школу, стараюсь лишний раз не напоминать. Вместо этого без остатка впитываю в себя медовый баритон отца, по которому скучала всё это время, ловлю улыбку на тонких губах и искрящийся желанием жить взгляд. Вместе с папой хожу на процедуры, и пока он самозабвенно пытается сделать первые самостоятельные шаги, пью сладкий чай с баранкой и невольно вспоминаю, какой простой и беззаботной была моя жизнь до той проклятой аварии.