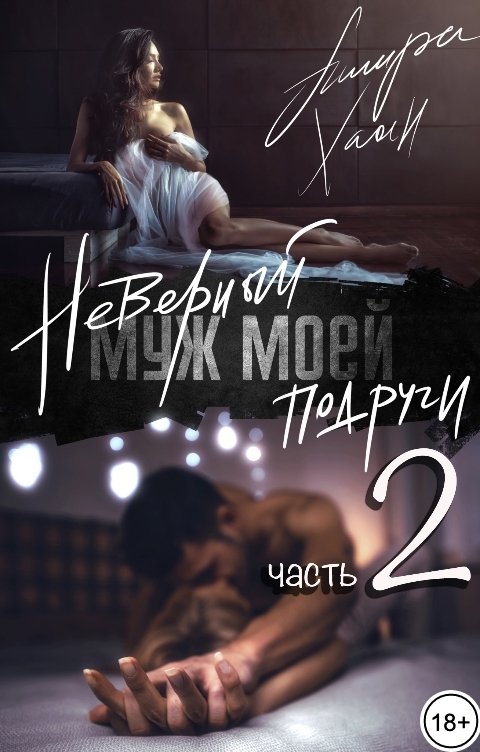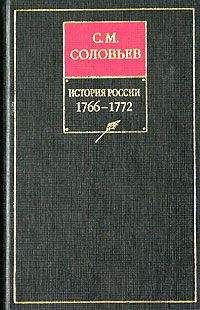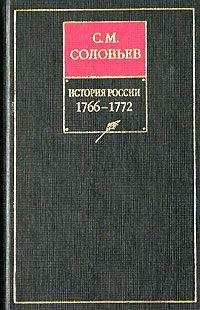времени, когда тело, измотанное «прощальным» сексом напоминало мне о нем. Нарисовала на стене детской комнаты штормовое море, разбитый о скалы пиратский фрегат и золотые монеты на дне.
Кто теперь не понимает пиратов, а? А?
Перебрала все кухонные шкафы, выкинула просроченные продукты, обклеила холодильник виниловыми наклейками, пересадила цветы, которые давно этого требовали.
Разобрала документы и записала детей к врачам.
К возвращению Игоря приготовила томленые свиные ребрышки в гранатовом соусе и миндальный пирог.
Купила самое развратное белье, что сумела найти — чулки с поясом и кружевной бюстгальтер, оставлявший открытыми соски. Постелила шелковые простыни, приготовила масло для массажа и свечи с запахом иланг-иланга.
Муж должен был вернуться к десяти.
В семь вечера мне пришла смс: «Через час у меня в офисе».
И я села в такси, накинув лишь пальто поверх того развратного белья.
Тогда. Дура
За моей спиной щелкнул замок.
Герман сделал шаг назад и замер, так и не вынув руку из кармана брюк.
Я медленно развязала пояс пальто, расстегнула пуговицы и позволила ему сползти по плечам. То, что Герман вообще не отреагировал на то, что оно упало на пол, говорило о многом.
Дернулся острый кадык.
Герман отвернулся и севшим голосом скомандовал:
— На диван.
И вот тут я разозлилась.
Нелегко сохранять ледяное выражение лица, когда тебя за плечо к себе разворачивает практически голая женщина — в чулках и кружевах. Но дрогнувший уголок губ Германа сменил направление движения и пополз вниз, когда я начала орать.
— То есть, ты вот так планируешь продолжать, да? — шипела я, наступая на него и тыча пальцем в третью пуговицу на белоснежной рубашке. — Позвал меня, как ни в чем ни бывало? В то же самое болото, в ту же игру! А ведья я тебя почти забыла, Гер!
— За три дня? — поднял он брови.
— Да, за три дня! — крикнула я. — Потому что я тебя ненавижу! И себя ненавижу! И все, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь!
В бессильной ярости я огляделась по сторонам и не нашла ничего лучше, чем смахнуть с подставки бронзовую статую африканской богини, стоявшую у стены.
Она неожиданно громко зазвенела, откатываясь на середину кабинета.
А мне понравилось!
Я хищно развернулась в другую сторону и заметила накрытый между двумя широкими кожаными креслами кофейный столик — с чайником, подставкой для пирожных и вазой, в которой стояли белые и красные орхидеи.
Пирожные на вид были свежайшие, и я захохотала:
— Ты меня чай позвал попить? И обсудить наши отношения?
— Да, — коротко отозвался Герман.
— А я приперлась в неглиже! Дура такая!
В ярости я просто смахнула все, что было на столике одним движением. Подпрыгнул, разливая кипяток на ковер чайник, зазвенели чашки, смялись пирожные, истошно запахло давлеными ягодами и кремом.
— Вот! Вот! — заорала я ему в лицо, развернувшись. — Зачем тебе такая истеричка, Гер! Вышвырни меня отсюда! Выкинь голой на мороз! Это же просто секс! Найди себе кого попроще! Найди!
Я подхватила вазу с цветами и шарахнула ее о стену. Шагнула, нагнулась, сгребла самые крупные осколки в перемешку с переломанными цветами и швырнула это все в Германа.
Захохотала, захлебываясь слезами, и, махнув рукой с удивлением проследила траекторию алых капель, росчерками испятнавших рубашку на груди Германа. Пошатнулась и посмотрела на свою ладонь, распоротую осколком стекла так, что среди текущей крови увидела что-то белое. Кровь лилась на светло-серый ковер тонкой струйкой, собираясь в темную лужицу среди его высокого, словно трава, ворса.
Голову повело, и ноги не удержали.
— Дура! — в сердцах бросил Герман, падая на колени рядом со мной. — Дура, дура, дура!
Зачем-то сорвал с шеи галстук и посмотрел на него безумным взглядом. Я захотела встать, начала цепляться за него, но оставляла только кровавые отпечатки ладоней на белой рубашке.
— Дура, — согласилась я, уплывая в обморок. — Найди умную…
— Я тебя люблю, идиотка! — прошипел Герман, впиваясь в мои губы ошеломительным поцелуем. Жестким, чувственным и настолько требовательным, что, пожалуй, можно было считать его за средство первой помощи, потому что терять сознание я перестала.
Он вскочил и принялся хлопать дверцами шкафов из темного дерева, бормоча что-то под перезвон стекол в них, с которыми никогда еще так грубо не обращались. А я смотрела на него, счастливая до одури. И мне казалось, что в этот темный ледяной день в его офисе вдруг запахло яблоневым цветом.
Хотя наверняка это были галлюцинации.
Герман обнаружил аптечку в последнем шкафу, снова рухнул на колени рядом и взял мою руку, не обращая внимания на то, что кровь продолжала капать и на его ковер, и на его дорогой костюм. В аптечке оказался не только антисептик и пластыри — там был полноценный набор для зашивания ран с кривыми иглами, и Герман принялся штопать мою раскроенную ладонь, сосредоточенно закусив губу и резкими взмахами головы отбрасывая волосы с глаз.
— Ты умеешь? — спросила я, хотя больше всего хотелось спросить, правда ли он меня любит.
— Нет, но ты сама виновата, — буркнул он.
Однако он умел.
Нежно, но твердо Герман делал все, что положено, чтобы остановить кровь и зашить рану.
А я смотрела на капельки пота на его висках, купалась в его запахе и погружалась в безумие глаз, в которых больше не было вселенского холода. И можно было уткнуться носом в его кожу и вдыхать, вдыхать, вдыхать ставший родным запах…
— Ты правда меня любишь? — спросила я.
Он промолчал.
— Ты меня не бросишь? — спросила я.
Он промолчал.
— И что теперь? — спросила я.
Он промолчал.
А может быть, я и не спрашивала, только думала об этом, глядя на его длинные умелые пальцы, которые уже закончили перевязку, но все еще продолжали поглаживать мое запятьсе с татуировкой «Nevermore», окончательно потерявшей свой смысл рядом с этим новым шрамом.
Он промолчал, не услышав вопросов, которые так