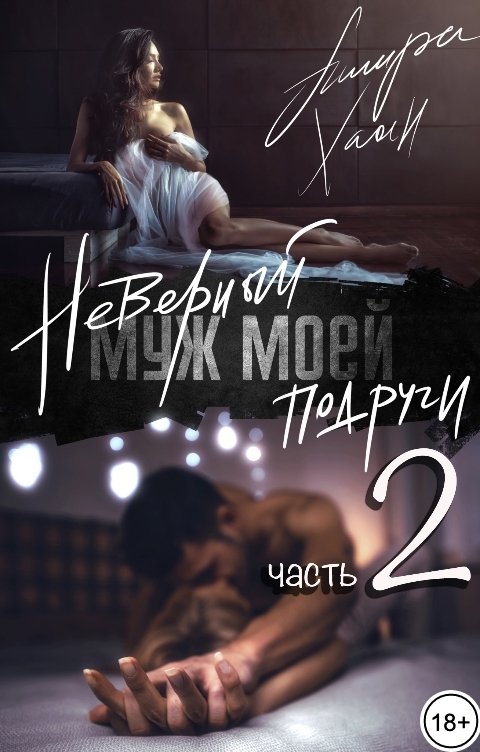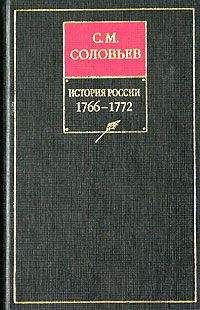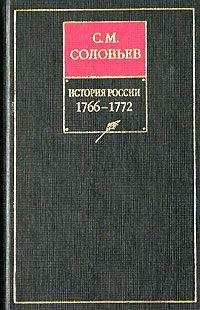и остались в моей голове.
Зато теперь мне не в чем его обвинить.
Он мне ничего не обещал.
Только, что найдет, если я пропаду.
Но разве я пропала?..
Сейчас. Измена себе
Мы с Верой спорим всю ночь, все утро и половину дня и все еще не можем никак сойтись.
С поезда надо сходить уже через пятнадцать минут, а я все сижу напротив Веры и пытаюсь понять, как так вышло, что она теперь защищает меня — любовницу женатого. А я обвиняю себя без жалости.
Если бы не проводница, стукнувшая костяшками пальцев в дверь купе, я бы так и пропустила свою остановку. Собираться приходится впопыхах, я быстро кидаю все вещи в сумку, уминаю их, протягиваю руку к томику Джейн Остин… и отдергиваю.
Там, куда я направляюсь, она будет выглядеть еще более неуместной.
— Спасибо тебе, — говорю я Вере и обнимаю ее. За окном уже мелькают кирпичные домики, тепловозы на запасных путях, унылые рабочие в жилетках и с ломами в руках. — Спасибо за разговор и за то, что ты… такая. Удачи.
Я оставила ей свой телефон, она же только покачала головой — никаких контактов.
Она так боится, что муж ее найдет, что даже в этом поезде едет за взятку, без билета, заплатив раз в десять дороже. Но рассказывать, почему именно боится, отказывается.
Только качает головой и просит не спрашивать.
— Помни, — говорит Вера, помогая мне выкатывать чемодан в коридор. — Самая худшая измена — это измена себе.
— Себе скажи, — бормочу я недовольно. — Ты любишь своего мужа и все равно убегаешь от него. Кто теперь изменяет своей любви?
— Вот и не повторяй моих ошибок. Не предавай любовь.
— Думать, что любовь — самое главное в жизни, это инфантилизм, — говорю я назидательно и не могу скрыть улыбку, глядя на проводницу, которая слышит наш диалог и выражение лица у нее при этом…
В общем, не думаю, что она часто возит пассажиров, которые разводят философскую нудятину в этих суровых краях.
— Что тогда, если не любовь? — спрашивает Вера, хитро улыбаясь.
— Семья! Вот появятся у тебя дети — поймешь!
Она улыбается еще шире. Конечно, это шутка. Никого еще не спасали от отсутствия смысла жизни дети. И вообще ни от чего не спасали. Родители только тащили их с собой в бездну непонимания.
На миг меня колет чувством вины. Но я точно знаю, что Анюте с нами будет лучше, чем в этом маленьком городке, где ее ждет в лучшем случае судьба ее матери. А то и что-нибудь похуже.
— Надеюсь, твоя семья сделает тебя счастливой. Хотя бы в будущем, — сказала Вера. — Потому что пока — нет. Зато любовь делает.
Нам надо еще договорить, но проводница во весь голос объявляет, что поезд стоит две минуты, и этого времени хватает только на еще одно объятие и на то, чтобы поспешно спустить чемодан на перрон и спрыгнуть следом.
Я долго машу вслед алым огням последнего вагона и только когда поезд скрывается в надвигающемся из-за ближайшей рощи тумане, наконец иду к площади у вокзала, где дежурят местные таксисты.
В гостиницу я попадаю ближе к ночи, потому что сначала решаю заехать в опеку. Здесь все по-простому — одноэтажный деревянный дом с трухлявым забором и крашеными в васильковый наличниками, скрипучая калитка, крошечный палисадник, засаженный золотыми шарами рудбекии и очень чистая комната с полосатыми половиками, которую почему-то хочется назвать то горницей, то светлицей.
Старый компьютер накрыт салфеточкой, а вот на столе, под лампой с зеленым матерчатым абажуром разложены бумажные стопки распечатанных анкет.
— Анюта здесь, у нас, — говорит мне пухленькая женщина с невероятно синими глазами, кутаясь в шаль из собачьей шерсти. — Но она уже спит. Не надо ее будить, пожалуйста.
Голос у нее просящий, как будто это я тут главная, а вовсе не они.
— Нет, конечно, нет, — поспешно соглашаюсь я. — Я даже не думала, что она с вами, она ведь…
— Пока в неясном статусе. Суд послезавтра. Приходите. Там сразу и решится.
От чая отказываюсь, почему-то вдруг забеспокоившись, что мой номер в гостинице могут сдать кому-нибудь еще. Совершенно иррациональный страх — не так много здесь туристов и командировочных, чтобы гостиница была заполнена хотя бы наполовину. Но пока я не прикатываю свой чемодан в номер по выцветшим пыльным коврам в коридоре, гасящим шаги практически до ватной тишины, я не успокаиваюсь.
Зато едва захожу и запираю за собой дверь, силы разом оставляют меня.
Сажусь на край кровати, складываю руки на коленях и тупо смотрю в пустоту.
Где-то на траектории моего взгляда — грязные туфли. С асфальтом тут не очень хорошо, и дороги раскисли еще до наступления осени. Сероватая глина отваливается с подошвы кусками, и я не выдерживаю этого и все-таки встаю, чтобы переодеться и привести их в порядок.
Такая вот твоя женская и материнская доля — даже погрустить в грязных туфлях не получается, натура требует сначала принять душ, почистить зубы, разобрать чемодан, подготовить платье для суда — и да, вымыть туфли.
И только после этого лечь в кровать, выключить свет и тихонько завыть в пахнущую сеном подушку. Без слез.
Когда раздается стук в дверь, я пугаюсь, что выла слишком громко и сейчас меня будут отчитывать за шум соседи или администрация отеля.
Встаю, накидываю халат и даже трачу несколько секунд перед зеркалом, чтобы убедиться, что выгляжу прилично. Мало ли, вдруг приемным родителям не полагается рыдать в подушку. А сплетни в таких местах разносятся быстро.
Надеваю маску холодной стервы, распахиваю дверь…
И маска осыпается с меня ледяной крошкой.
В голове пустота. В голове звон.
В груди горячее страшное счастье.
Когда Герман делает шаг, оказываясь вплотную ко мне, потому что я приросла к месту и не в состоянии сдвинуться, я только всхлипываю и обвиваю руками его шею.
Тогда. Мой. Мой.