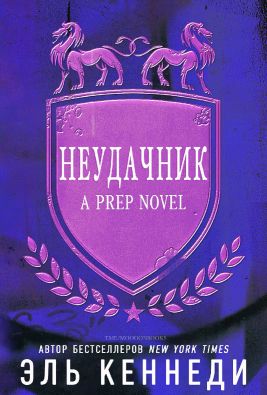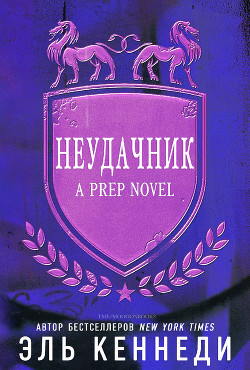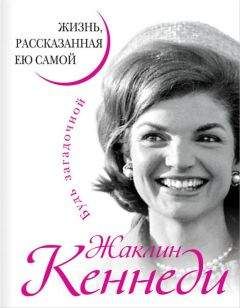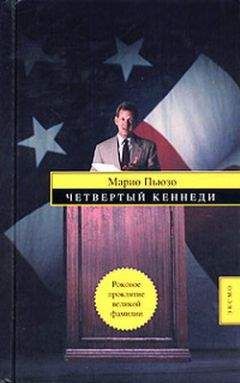за нами из столовой.
— Это не моя проблема, — бормочет ЭрДжей вокруг ломтика тоста.
Я бросаю взгляд на Сайласа, который вступается за меня. Люди обычно воспринимают Сайласа всерьез, тогда как во мне они видят испорченного мальчишку, чье мнение ни хрена не стоит. Я не возражаю. Это избавляет меня от множества скучных разговоров.
— Слушай, — начинает Сайлас, используя свой голос мистера Серьезность в отношении сводного брата Фенна, — я знаю, что Дюк производит впечатление болтливого клоуна, но он не шутит, когда речь идет о его бизнесе. Вся торговля и пороки проходят через его магазин, без исключений. Он не наживает себе врагов, если только ему это не нужно, но поверьте нам, он абсолютно точно обеспечит соблюдение этих правил, если на него надавите.
— Да, все еще не беспокоюсь. — Хоть раз кто-то считает советы Сайласа такими же бесполезными, как и мои. Абсолютно равнодушный, ЭрДжей заканчивает свой завтрак и отходит от стола с подносом.
— Чувак, — говорит Фенн, делая последнюю попытку просветить своего сводного брата, — это не пустые предупреждения. Тебе стоит побеспокоиться. Последний парень, который бросил вызов Дюку, попал в больницу с внутренним кровотечением.
Это привлекает внимание ЭрДжея. Ну, вроде как. Он наполовину качает головой, что говорит мне, что он, по крайней мере, обращает внимание. — Как Дюк смог сбежать без наказания?
Я тихонько хихикаю. — Мы все здесь сбегаем без наказания, чувак. Наши родители чертовски богаты.
— Дюк порочен, — мрачно говорит Фенн. — Он способен нанести серьезные повреждения.
— Парень с внутренним кровотечением выжил? — спрашивает ЭрДжей.
Фенн хмурится. — Едва ли.
ЭрДжей, кажется, обдумывает это. Затем он говорит: — Я не беспокоюсь.
Будь то высокомерие или невежество, ЭрДжей сильно недооценивает не только решимость Дюка, но и его хватку в этой школе. Дюк может быть тупым, но он компенсирует это жестокостью.
Тем не менее, в упрямстве ЭрДжея есть что-то достойное восхищения. Я ценю его абсолютную безразличность. Не то чтобы я назвал нас друзьями. Его почти полный отказ от социальных контактов делает это немного затруднительным, но он мне нравится. Он — скрытая карта, а с ними всегда веселее всего.
После обеда ЭрДжей занимает место рядом с моим на английском. — Привет, — ворчит он.
— Привет. Ты читаешь?
Он пожимает плечами и достает из сумки экземпляр «На Дороге», когда мистер Гудвин приступает к обсуждению темы дня. Похоже, наш учитель не брился с утра понедельника, прикрывая мягкокожего Хорошего Мальчика некоторой грубостью. Ему подходит. Я представляю его растущим в холодном месте. На ферме с коровами и козой, которую он назвал при рождении. Пьющий молоко житель Среднего Запада, которого заманили на восточное побережье обещаниями большого города, но он смылся в нашу маленькую деревушку.
— Мистер Кент.
Я поднимаю голову. — А?
Мистер Гудвин сидит на углу своего стола в клетчатой рубашке от Banana Republic с закатанными рукавами, открывая загорелые предплечья. Его пытливые зеленые глаза устремлены на меня, ожидая ответа.
— Извините, не заметил.
Он протягивает свою потрепанную книгу в мягкой обложке. «Беспокойство и тоска».
— Разве мы все не такие.
Всплески смеха ненадолго сглаживают его раздражение.
— В чтении, мистер Кент. «На Дороге».
— Точно. Это та, где Мэрилу дрочит двум парням в машине.
— Кажется, я чувствую закономерность, мистер Кент.
— Нет, я чувствую закономерность, — возразил я. — Мы собираемся читать в этом семестре что-ни будь, что не включает в себя графическое сексуальное содержание?
Хотя мистер Гудвин старается казаться невозмутимым каждый раз, когда я заговариваю о сексе, я чувствую его затаенное беспокойство. Но, очевидно, я держу его интригу, потому что, хотя он может отчислить меня в любой момент, он этого не делает. Возможно, я не самый академически образованный человек, но я считаю себя студентом, изучающим человеческую природу, и я определенно знаю сексуальное напряжение, когда оно наблюдает за мной, как нервный мужчина в конце бара, вертящий в кармане обручальное кольцо. Мистер Гудвин бьет за команду хозяев? По крайней мере, за хозяев.
Я бы, блядь, поставил на это.
— Вы, несомненно, видели экранизацию. Не думаю, что вы читали текст, — говорит он, садясь за свой стол.
— Боюсь, не могу. Я дал обещание.
Легкая улыбка растягивает на его губах. — Это так?
— Как белый мужчина с привилегиями, я несу социальную ответственность за деколонизацию своей книжной полки. Я уже выполнил свою квоту мертвых белых парней на этот год.
— Понятно. — Слегка позабавленный, хотя бы потому, что он не слышал этого оправдания раньше, он снова открывает свой экземпляр в мягкой обложке и начинает писать на доске. — Тогда, по крайней мере, окажите уважение своим одноклассникам, тихо следуя за ними.
Мой взгляд следит за движением его руки, затем опускается к его заднице. В моей голове проскакивают самые разные мысли, но ни одна из них не вызывает уважения. Я начинаю представлять, что происходит под рубашкой на пуговицах и брюками цвета хаки мистера Гудвина. Наверняка он один из тех милых мальчиков с шестью кубиками и десятидюймовым членом. Чувствительный, грубый, с огромным стояком.
Когда он поворачивается от доски лицом к классу, его зеленые глаза на секунду встречаются с моими. Мимолетный взгляд, но в нем много возможностей. Похоже, я немного поторопился, посчитав этот семестр потерянным. Сайлас был прав. Сегодня стоило встать с постели.
Да и на других факультетах Сандовера произошло значительное обновление. Я со смехом записался на курс Введение в Изобразительное Искусство, решив, что акварель и керамика — это минимальный способ получить пятерку. Но близорукая, полу глухая старуха, которая преподавала здесь три десятилетия, в конце концов ушла на пенсию или умерла. На ее место они привлекли молодую рыжую девушку с сиськами, на которые можно было смотреть с другого конца комнаты. На прошлом уроке она была одета в покрытый краской оливковый комбинезон с обтягивающей майкой, едва сдерживающей эти острые соски. Сегодня это белое платье, не скрывающее того факта, что я могу видеть цвет ее веснушчатой розовой плоти сквозь ткань, когда полуденный свет падает на нее точно в цель.
— Приятно снова всех видеть, — говорит она, когда все рассаживаются. — Я все еще