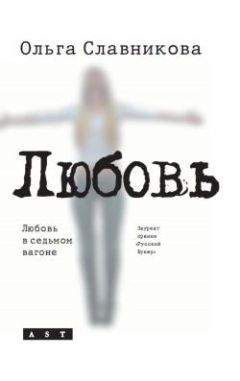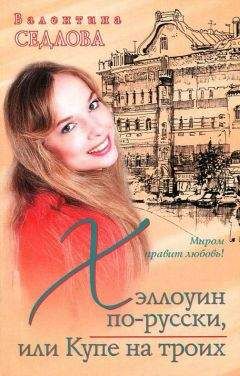«Ага, как бы не так», – подумала Кира, изображая досаду.
– Ставлю все, – Смоляков аккуратно спустил между пальцами два неодинаковых столбика медяков.
«Вот оно!» – мысленно возликовала Кира, закусывая губу.
– Каре, – Смоляков любовно выложил на стол четыре семерки.
– Стрит флеш, – Кира щегольски выпустила веером пять карт, возглавляемых классической пиковой дамой.
– Ах, мать вашу! – Смоляков с силой хлопнул себя по коленям и, откинув голову, расхохотался.
Диктофон у Киры лежал в рюкзаке, сброшенном у входа, под сырыми горбами висевшей прямо на гвоздях, кисло пахнувшей одежды. По счастью, диктофон был завернут в полиэтиленовую пленку, превратившуюся в сопли, но все же защитившую нежную машинку. Выставив диктофон на стол, рядом с кучкой выеденной до углей картофельной кожуры, Кира положила палец на кнопку записи.
– Ну что, будем делать интервью? – спросила она торжествующе.
Смоляков нехотя кивнул и с шорохом провел ладонью по лицу, отчего сделалось заметно, что за время игры на подбородке и щеках отставного актера вылезла похожая на корку соли седая щетина. Кира нажала на кнопку, и диктофон издал натужный маленький скрип.
– Итак, что вы будете делать, если смерч опять уничтожит ваш дом? – задала Кира давно приготовленный вопрос.
– Отстрою в третий раз. И в четвертый, и в пятый, и сколько понадобится, – глуховато проговорил Смоляков, наклоняясь ближе к разболтанно тарахтящей машинке.
– Понадобится для чего? – тут же подхватила Кира интересную тему.
– Я вам проиграл правду, – недобро усмехнулся Смоляков. – Вот вы и получите правду независимо от того, как смогут ее воспринять тупые читатели вашего журнала. Когда дом поломало в первый раз, вероятность его разрушения резко уменьшилась. После второго раза разрушение стало совсем невероятным. После третьего – будет почти невозможным. После четвертого… В общем, настанет некий энный раз, после которого я в своем доме стану неуязвим.
– Бессмертен, может быть? – иронически спросила Кира, чувствуя, однако, как от волнения, от близости чего-то таинственного сердце пропустило удар и зависло в пустоте.
– Бессмертен, – серьезно подтвердил Смоляков, и его замерзшие твердые глаза вдруг вспыхнули синим, будто горящий спирт. – Именно здесь, на этом самом месте, завязался и растет пузырек бессмертия. Раньше я по наивности думал, будто останусь жить в своих спектаклях и фильмах. Но такие настали времена, что всякий творец переживает свои творения, и нынешняя коммерческая эксгумация меня нимало не обманывает. В общем, я не дурак, чтобы покидать отмеченную точку. И мое упорство пережить энный смерч, после которого, собственно, никакой забор не будет нужен, не имеет отношения к национальной идее. Хотя природа России такова, что ей, кажется, суждено претерпеть все мыслимые катаклизмы, после чего она вся целиком станет недосягаема и неуязвима. Но до этого еще далеко, а моя капсула бессмертия одноместная. Мне здесь никого не надо: ни политиков, ни журналистов.
– А почему тогда вы не живете в доме? – спросила Кира, только сейчас по-настоящему ощутив, как духота подземелья давит на виски и морит в сон, отчего бревенчатая стенка ходит волнами, будто развязавшийся плот.
– Я предусмотрительный, – низкий голос Смолякова отдавался так, будто он говорил в пустой горшок, роль которого выполняла Кирина голова. – Думаете, торнадо можно заметить издали? Это если специально наблюдать, а нет – не успеешь выглянуть в окно, как он уже снимает с дома крышу. Издалека его даже не слыхать, он только шипит, будто на пластинке старая игла. Я читал, что турбулентные вихри генерируют звук высокой частоты… Эй! – Кира вздрогнула всем телом, обнаружив, что Смоляков стоит над ней и трясет ее за плечо. – Между прочим, у вас диктофон не работает.
Действительно, машинка на столе застряла и надулась. Кира протянула к диктофону отяжелевшую руку: от касания диктофон подпрыгнул, щелкнув всеми кнопками, и выбросил вбок кассету с петелькой зажеванной пленки.
– Давайте продолжим завтра, – миролюбиво предложил Смоляков. – Я не отлыниваю, карточный долг свят. Ложитесь в кровать, там постелено чистое белье. Но прежде чем вы заснете, я отвечу вам на вопрос, не имеющий отношения к интервью. – Тут он наклонился ближе, так, что Кира почувствовала крепкий, морской и соленый запах здорового мужского тела. – Запомните, Кира Николаевна: вы – не моя дочь.
– А докажите! Давайте переспим, – развязно предложила Кира, поднимаясь на нетвердые ноги.
– Кира Николаевна, голубушка, – Смоляков отстранился от ее спадающих, как плети, сонных объятий. – Увольте старика.
Кира проснулась далеко за полдень в слезах. Спалось ей плохо, чудовищная старая перина, будто мягкая коровья туша, ворочалась под ней, хрустела, сбивалась горбом. Что же приснилось опять? Так бывало часто, и Кира никогда не помнила, отчего у нее наутро сырые кляксы на подушке. Смоляков, наверное, слышал, как она ночью скулила. Ну и черт с ним, со старым пердуном. Голова от подземной духоты болела страшенно, казалось, даже волосы встают дыбом от этой распирающей боли. И еще какая-то странная тревога. Будто далеко, за пределами слышимости, работает тяжелая строительная техника. Будто колкой кисточкой проводят по губам.
«Никаких истерик! Подъем!» – скомандовала Кира и выбросила себя из нагретой ямы. Пол под ногами качнулся, вступил во взаимодействие с тяжелым шариком в голове, уравновесился им и встал твердо. Одежда на спинке кровати еще не просохла и напоминала на ощупь мокрый сахар. Кира опять натянула хозяйские джинсы, взяла с гвоздя какую-то грузную куртку, пахнувшую псиной. Ни Смолякова, ни его собачонки не было в блиндаже. Следовало поснимать усадьбу, пока несостоявшийся папенька не выпер восвояси чужую журналистку. Фотокамера лежала на самом дне рюкзака, полиэтилен, в который она была упакована, тоже набрал воды и теперь превратился в корку желтого ссохшегося клея. Однако камера включилась, просигналив нежным звоном, и показала на мониторе ведущие на волю дощатые ступени.
Наверху пронизывал ветерок, и небо было беспокойно: холодное солнце наплывало и сменялось тенью, как при ускоренной съемке, – казалось, будто за минуту пробегает полдня. Приходилось внимательно глядеть себе под ноги, чтоб не оступиться: всюду зияли странные рваные ямы, пожелтелые космы травы с комьями корней напоминали снятые скальпы. Тут и там виднелись растрепанные птичьи гнезда с кладками яиц; не сразу Кира сообразила, что это огромный град, выпавший, пока она спала.
И вдруг подспудная тревожная вибрация сменилась резким, сверлящим уши свистом. Жидкую березовую рощу, видную поверх забора, хлестнуло раз и два, словно окатило с размаха тяжелой водой. Кира поспешно обернулась и больно села на землю. Смерч, косой крученый столб, извивался, точно его отжимали в воздухе на манер пододеяльника, и двигался прямо на Киру, на смоляковскую усадьбу. Грозовая клякса, из которой спускался чудовищный жгут, не казалась особенно страшной, она была даже солнечной с длинного размазанного бока, но Кира в жизни не видела ничего черней, чем ясная синева в разрывах этой тучи, окаймленная сверкающей, словно наточенной, облачной сталью. В воздухе неслись вальсируя гнилые доски, рваное, как промокашка, кровельное железо, какие-то темные хлопья; мелькнуло и лопнуло алое пятнышко, в котором Кира узнала собственный зонт.