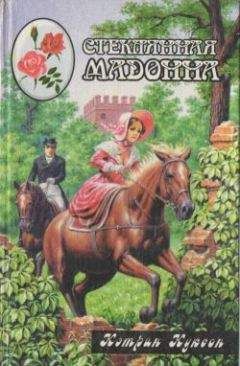Мэтью согласился, и все между ними шло гладко вплоть до второй недели наступившего года, когда однажды вечером, вернувшись из города, он позвал Тилли в библиотеку и без всякого вступления заявил:
— Уверен, вы будете рады узнать, что эта женщина — Макграт — скоро получит по заслугам.
— Что вы имеете в виду? — прищурилась Тилли.
— То, что сказал. Это дело находится в руках моего адвоката: он занялся им вскоре после инцидента. Завтра она предстанет перед судом. Свидетелем будет Лейберн — и вы тоже.
— Нет! Нет! — почти выкрикнула она. — Только не я. Я больше никогда не пойду в суд! Вам не следовало этого делать.
— Не следовало? Да ведь она могла убить ребенка, а вы говорите, что мне не следовало этого делать!
— Да. Повторяю: вам не следовало этого делать. Это не ваше дело.
— Троттер! Ведь ребенок всю жизнь будет носить на себе отметину, оставленную этой женщиной. — После секундной паузы, Мэтью заговорил тихо, ледяным тоном. — Мне не хотелось бы постоянно напоминать вам, что этот ребенок — мой единокровный брат. Речь идет о кровном родстве, а это имеет для меня большое значение.
— Это мой ребенок. Вы не имеете никаких прав на него — никаких. Я хочу, чтобы вы это навсегда запомнили: вы не имеете никаких прав на него. Более того, вы не имели никакого права делать то, что сделали. — Тилли задохнулась и прижала руки ко лбу. — Вы не понимаете. Даже если бы она убила его, я… я бы не смогла пойти в суд. Я была в суде. Меня обвиняли в суде — обвиняли в том, что я ведьма и что по моей вине произошло убийство. Я до сих пор не могу забыть этого. Вы говорили, что у вас бывают кошмары, связанные с лягушками, а я… — она энергично потрясла головой, словно стараясь прогнать навязчивую мысль, — у меня случаются периоды, когда мне каждую ночь снится, что я снова нахожусь в суде. — Тилли вскинула голову и они в упор взглянули друг на друга. Потом как-то вяло, бесцветным голосом она продолжила: — Я… я ценю вашу заботу… я правда ценю ее, но поверьте, я не хочу, чтобы этим делом занимался суд. Она была пьяна, иначе никогда не сделала бы ничего подобного. Как ни ужасно это звучит. И вот еще что — эта семья достаточно пострадала по моей, хотя и невольной, вине. Если… если эта женщина окажется в тюрьме, я… у меня не будет ни минуты покоя. Я знаю наверняка, если в этой семье опять что-то произойдет из-за меня, на меня обрушится вся злоба деревни и мне будет страшно выходить за ворота Мэнора. Один из ее сыновей погиб… при странных обстоятельствах. — Тилли потупилась. — Я… а обвинили меня, хотя до суда так и не дошло. Ее младший сын… почему-то он был не таким, как другие члены этой семьи, он был… добр ко мне… он ушел из дому и больше не вернулся. Третий отправился в армию и там погиб. Теперь у нее остался один сын и один внук. — Она склонила голову на грудь.
Воцарилось молчание. Наконец Мэтью произнес:
— Все будет так, как вы скажете. Я думал, вам захочется отомстить, но вижу, что ошибся. — Мэтью развернулся и отошел к окну. Постояв некоторое время, глядя на улицу, он заговорил снова: — Есть еще одно дело, о котором я хотел с вами поговорить. Примерно через две недели я собираюсь дать небольшой обед на шесть персон и прошу вас заняться его устройством. Все попросту, ничего особенного. Моими гостями будут мистер и миссис Роузиер, мисс Алисия Беннетт, двоюродная сестра миссис Роузиер. Ну, и, конечно, Джон с Анной и…
— Роузиер? — вырвалось у Тилли.
Мэтью посмотрел на нее:
— Да, Роузиер. Мистер Роузиер будет моим партнером в делах, связанных с шахтой.
— Партнером!.. Но ваш отец…
В ответ раздался такой вопль, что Тилли не на шутку перепугалась:
— То, что делал мой отец, и то, что хочу сделать я, — это две абсолютное разные вещи! Мой отец испытывал личную неприязнь к Роузиерам. Я не испытываю к ним никаких чувств — ровным счетом никаких, но я нуждаюсь в опыте Роузиера. Он знает о шахтах все, а я, к сожалению, — пока нет. И если я вернусь в Америку… то есть, когда я вернусь в Америку, заниматься всем этим придется Джону, а он знает о горном деле меньше, чем ничего. Я вкладываю в этот проект большие деньги, а мистер Роузиер верит в него настолько, чтобы прибавить к моим деньгам свои. Кроме того, он умеет подбирать людей, способных не только болтать языком, но и работать в шахте…
— Да, а еще он умеет обращаться с ними, как с рабами, и селить их в лачугах, и выгонять их в любой момент без предупреждения за попытку научиться грамоте… то есть просто вышвыривать их на улицу.
— Это было когда-то давно, — возразил Мэтью уже спокойнее. — С тех пор многое изменилось в лучшую сторону.
— А я слышала — нет.
— Это ваши Дрю по-прежнему снабжают вас последними новостями с шахты? — Не дождавшись ответа, он продолжил: — А ведь мой отец как работодатель был ничуть не лучше мистера Роузиера. Он позволил вам работать на его шахте, не так ли? А та девочка, которую убило в двух шагах от вас во время обвала, — сколько ей было лет? А что касается лачуг — я вчера осматривал дома при нашей шахте. Конечно, они за эти годы сильно обветшали, но все еще можно представить, какими они были, когда в них жили люди. И уверяю вас — многие бродяги, с которыми мне довелось встречаться в Америке, предпочли бы ночевать под открытым небом, отдавшись на милость стихий и диких зверей, чем жить в этих так называемых коттеджах… — Мэтью подошел почти вплотную к Тилли. — И так, — теперь он смотрел прямо ей в глаза, — вы меня крайне обяжете, Троттер, если позаботитесь об устройстве небольшого обеда двадцать восьмого числа. Благодарю вас. — И вышел, оставив ее посреди библиотеки со стиснутыми перед собой руками.
И почему все их споры кончались именно так? И почему ей всегда хотелось пререкаться с ним, идти против него? Да и вообще — кто она, где ее место? Как сказала бы покойная бабушка, она ни рыба, ни дичь, ни говядина. Предоставленная самой себе, она чувствовала себя хозяйкой дома, но в присутствии Мэтью становилась прислугой. Хотя он — странная вещь — никогда не обращался с ней, как с прислугой, скорее как с равной себе.
Но Роузиер… Конечно, Мэтью прав: он ничего не понимает в горном деле, а если уедет назад, в Америку, то ему придется оставить кого-то вместо себя. Хорошо бы он уехал уже завтра! Да, завтра. Чем скорее, тем лучше.
* * *
День — один из последних дней апреля — выдался ветреным: облака стремительно неслись по небу, то закрывая, то вновь выпуская на волю солнце. Тилли была в детской. Держа сына на руках, она стояла у окна и, указывая вверх, пыталась привлечь его внимание.
— Смотри, птичка… смотри, Вилли, вон птичка.
Но малыш не следил за ее указательным пальцем, довольно гукая, он принялся шлепать своей пухлой ручонкой по щеке матери. Тилли вгляделась в его глаза — большие, темные. Потом провела кончиком пальца вдоль шрама на его лобике. Вопреки прогнозам врача, рубец не побледнел: он по-прежнему оставался ярко-красным и выпуклым. Но все же, при каждом визите, доктор уверял Тилли, что все это с возрастом пройдет: шрам, конечно, останется на всю жизнь, но, когда кожа потеряет свою детскую нежность, он станет едва заметным.