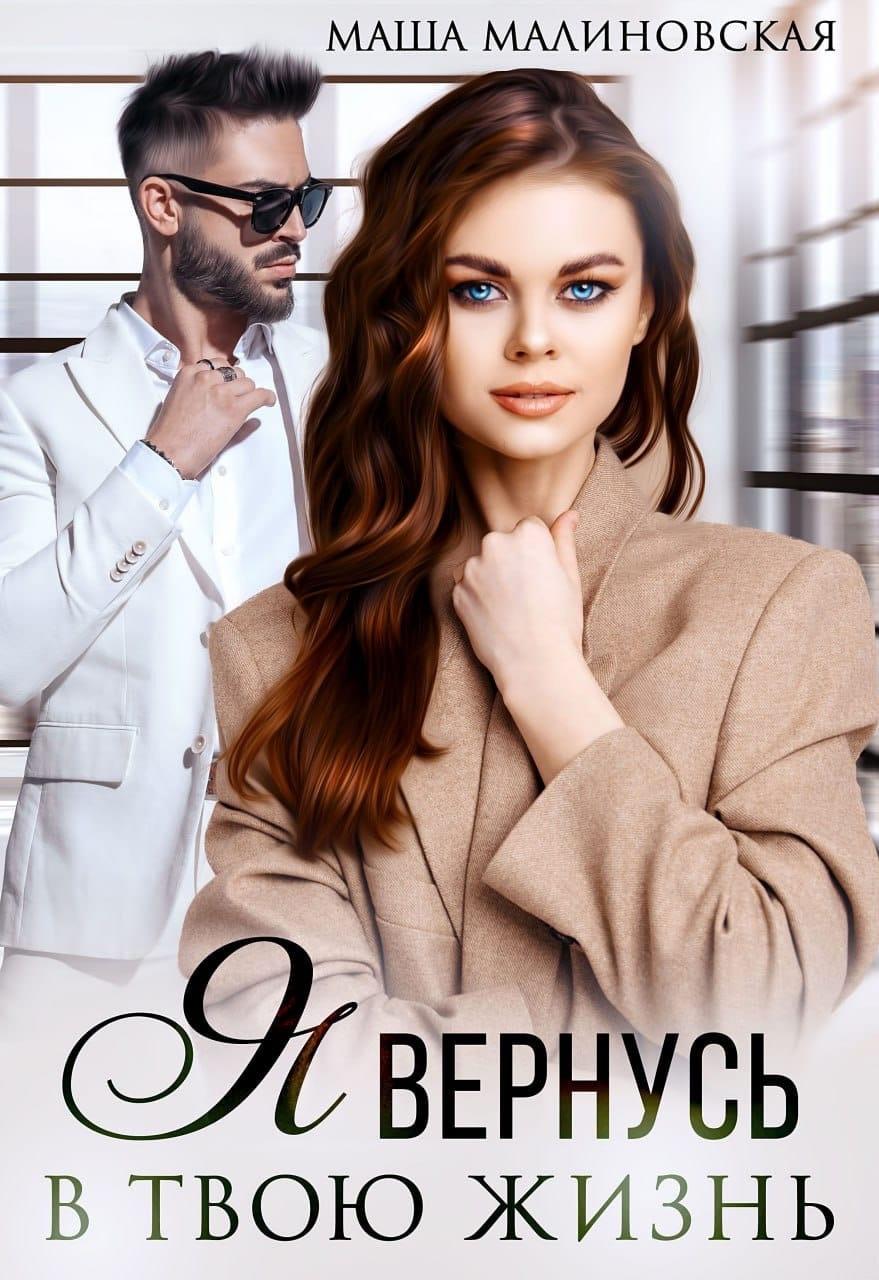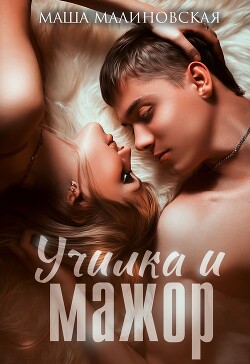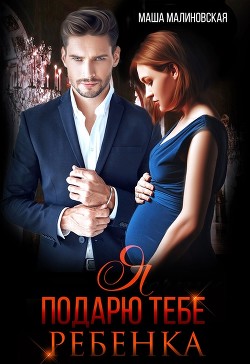закипает, тело пламенем охвачено.
И меня срывает.
— Чёрт тебя дери, Бамблби, — рычу, приходя в шок от самой себя. Ну… потом приду, потом…
Обвиваю его ногами и подаюсь вперёд, вынуждая лечь на спину. Опускаюсь на ствол до упора, задрожав.
А он… улыбается. Улыбается! Победно так, с огнём в глазах.
— Давай, солнышко, выплесни уже это.
Да пошёл ты.
Может, я нездорова? Ведь настроение не может меняться так резко.
Или может? Или дело всё же в вине?
Или Семён специально ведёт меня через эмоции? Он умеет. Я помню.
Ну и ладно. Я всё равно сорвалась. Всё равно погрязла в нём по уши. Снова.
А завтра… завтра будет завтра.
Теперь я пью его. Жадно скольжу пальцам по безупречному телу, насаживаясь на твёрдый член в таком темпе, в котором хочется. Так глубоко, как хочется.
Но только недолго.
Силы мои иссякают быстро. Дышать тяжело. А тело всё так же горит.
И тогда Семён снова оказывается сверху. Только теперь и у него дьявольский огонь в глазах. Безумный.
Он закидывает мои ноги себе на плечи и срывается на быстрый темп. Бешеный. Дикий. Приходится руку до крови прикусить, чтобы не начать кричать.
Наш секс кажется таким пошлым, каким-то грязным, даже животным. И мы тонем друг в друге с каждым толчком, с каждым ударом тел друг о друга.
Пока не взрываемся. Вместе, синхронно, как в кино или любовных романах. Пока не сливаемся в протяжном общем стоне, который пытаемся спрятать, уткнувшись друг в друга.
Это ведь ненормально, да? Невозможно же так дико отдаваться тому, кого всеми силами пытаешься вытравить из души и ни под каким предлогом снова не впустить в свою жизнь?
Наверное, это мазохизм чистой воды. Сводящий с ума, безумный.
Но такой сладкий. Какой же сладкий!
Завтра я совершенно точно съем себя. Буду истязать условной плетью за слабость. А сегодня… сегодня ведь смысл уже начинать? Пусть сегодня будет безумным, раз уже началось.
— Ещё хочу, — шепчу Семёну прямо в ухо, запуская пальцы во взмокшие волосы. — Ещё. Возьми меня ещё раз.
— Болит? — Семён мягко проводит пальцами по саднящей после падения на пол лопатке.
— Нет, почти не болит. Если только совсем немного.
После секса моя кожа такая чувствительная, что я и понять не могу, где болит. Оно всё тело сейчас горит и саднит. К чему ни прикоснись — везде отдаёт, везде ощущения усилены.
На его нежные прикосновения к обнажённой спине я реагирую так же, как и всегда — мурашками и лёгким покалыванием в самом низу. В животе, между бёдрами. Это даже больно, потому что после такого количества оргазмов даже лёгкое возбуждение приносит дискомфорт.
Я не знаю, как долго мы занимались сексом. Несколько часов, наверное. Что только не делали с телами друг друга. По полной оторвались.
На полу, на кухонном столе, на обеденном. Разбили сахарницу, и потом оцарапали оба колени на рассыпанном сахаре.
— Хорошо, что не соль, — хихикнул Семён, продолжая вбиваться в меня снова и снова. — И слизывать сладко, — добавил, присосавшись к плечу. — Хотя с тебя я готов слизывать что угодно.
Пошлый, почти развратный, как и всегда. Большой ошибкой было подумать, что он хоть в чём-то изменился. Тяжелее только стал, массивнее. Это даже оказалось по-своему приятно. Но остался в сексе таким же несдержанным, ненасытным, горячим. Таким же требовательным, но одновременно с этим щедрым.
Моё тело сейчас ощущается уставшим, даже изможённым, измотанным, но каким-то наполненным, свободным, что ли. Будто с него сняли все зажимы, освободили от тугой одежды в прямом и переносном смысле. Позволили дышать, наполняя кислородом каждую клеточку.
Обхватываю колени и кладу на них подбородок. Прикрываю глаза, пока Семён продолжает медленно водить пальцами по моей спине, раскинувшись рядом на диване. Считает каждый позвонок вниз, вверх и снова вниз.
— Ты закрываешься, — говорит, продолжая прикасаться. — Сейчас начнёшь себя корить или когда я уйду?
Он чувствует меня, понимает. И это плохо. Скрыть свои чувства не получается. Это обнажает.
— Не сегодня. Я слишком устала, — говорю откровенно.
— А может вообще не нужно?
— Может.
— Мы ничего плохого не сделали, Василина.
— Знаю.
Нас окутывает тишина. Молчим. Я понимаю, что с утра горечь начнёт подниматься. Начнёт, давить, жечь, заставлять мысли снова и снова толкаться в голове. И сожалеть, сожалеть, сожалеть…
Мне хорошо с ним. В моменте. Но у нас уже есть своя история, своя боль, которая оставила слишком глубокий след.
А я боли больше не хочу.
Я к ней не готова и не хочу быть готова. Я не из тех, кто рискует снова и снова, несмотря на рваные раны и сломанные кости. У меня нет волшебной суперсилы самоисцеления. Поэтому я не хочу рисковать снова. И снова. И снова. Это у кошки девять жизней, а у меня одна. И я выбираю себя.
— Я сделаю кофе, — встаю, поднимаю с пола свою футболку и натягиваю её. Прячусь будто, а не одеваюсь. Но прекрасно же знаю, что это не поможет, не спасёт.
— Я в душ пока, — Семён тоже поднимается с дивана.
Он уходит, но я понимаю, что душ Семён мог бы принять и дома. Это его уступка. Даёт мне несколько минут вдохнуть, прежде чем мы посмотрим друг другу в глаза за чашкой кофе. Не так, как когда он был на мне, во мне, тогда мы тоже держали взгляды друг друга.
Но за столом это другое. Это сложнее. Это больнее.
Он возвращается тихо, я даже шагов не слышу до момента, пока он не оказывается рядом и сам переставляет обе чашки кофе на обеденный стол.
Семён уже одет в джинсы и футболку. Влажные волосы торчат колючками. Он присаживается и делает глоток из чашки, не отводя от меня внимательного взгляда. Того самого, которого я всегда опасалась — острого, проницательного, достающего до самой глубины души, которую никакими средствами от него закрыть мне так и не удаётся.
Я тоже опускаюсь на стул. Мышцы внутри напоминают о том, чем в последние часы я занималась. Лишь облизнув губы, я понимаю, что сделала это при проскользнувшей мысли о недавнем сексе. Сделала ненамеренно, но определённо зря. Потому что тут же в ответ получила вспышку в глазах Семёна.
Но он её подавил, продолжая смотреть на меня. Это он тоже умел всегда