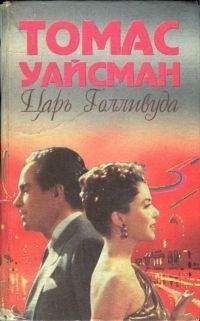— Возьми, поешь еще немного. Человек должен есть.
— Я не голоден.
— Съешь, по крайней мере, кусочек мяса, это легкая пища, даже инвалид может это есть.
— Оставь, мама, съем потом, не хлопочи из-за меня.
— Я не знаю, чем тебя кормить, ты ничего не ешь.
— Мне нужно кое-что обдумать, я совсем не голоден. Не сменить ли нам тему?
— О чем же нам говорить? Ты ведь считаешь, что я не могу дать тебе ничего, кроме еды.
— Ради Бога, прошу, перестань так говорить.
— Мать есть мать, и она выполняет свой долг.
— Ты все время раздражаешь меня, мама.
— Разве не о твоем благе я забочусь?
— Я знаю, знаю, ты желаешь мне добра, но ты раздражаешь меня, впихивая в меня пищу, когда я совсем не голоден. Позволь мне самому определять, когда я хочу есть, а когда — нет.
— Я сделала тебе пюре, совсем немного картофеля с молоком.
— Нет, мама. Я вообще не хочу есть. Ничего не хочу, — с этими словами он сильно оттолкнул от себя тарелку.
— Впервые слышу о таких вещах.
— Хорошо, ты услышала о них теперь.
— Ты не заболел, Алекс?
— Нет, я здоров. И я миллион раз просил тебя не называть меня ни Алексом, ни Элекси. Меня зовут Александр.
— Это так важно?
— Раз я говорю тебе об этом, значит, это для меня важно, — сказал он с возрастающей яростью. — Ты и сама прекрасно знаешь, что для меня это важно. Человека можно довести до безумия этой привычкой постоянно его опекать…
— Хорошо же ты говоришь с матерью. Я могу довести его до безумия! Как такие слова могли сорваться с твоих уст?
— Да неужели ты не видишь, что большинство твоих слов постоянно выводит меня из себя? Оставь же меня в покое, прошу тебя.
— Это от того, что ты все время сидишь дома, — сказала она с проницательным видом. — Сколько раз я говорила твоему отцу, что это нехорошо для ребенка, все время сидеть дома. Никогда ничего не видеть. Что это за жизнь? Ты слишком много думаешь, вот почему тебе так трудно справиться со своими нервами. Ты робок с девушками, а ведь этого не должно быть, ты такой изящный мальчик…
— Ради Бога, мама! — крикнул он, вскакивая из-за стола и бросив кож, который до того вертел в руках на стол. — Прошу тебя, замолчи! Оставь все эти свои замечания при себе. Мне надоело все это слышать, уйди, уйди! Я не вынесу больше, не выводи меня из терпения. Все время, все время! Это как гвозди, которые забивают тебе в голову!
Ее лицо стало трагичным и мрачным, оно исказилось тем выражением, которое, как он знал, было предвестьем слез.
— Как ты разговариваешь с матерью, — сказала она. — Неужели я этого заслуживаю? В муках родила его на свет — в муках! И вот что я получаю! И это вся моя награда!
— О, перестань, перестань!
Он чувствовал, как гнев неудержимо поднимается в нем, он почувствовал негодование; скоро он может сорваться на тот самый отвратительно высокий крик, каким кричат, ругаясь, соседи. В такие минуты все заботливо привитые ему американские манеры сходят на нет, невозможность сдержаться, казалось, опустошает его, и он превращается в одного из тех типов, которых так ненавидит и презирает. Размахивающих руками, говорящих запальчиво и громогласно… Это было похоже на то, что из него выламывается наружу некая другая персона.
— Не плачь! — угрожающе закричал он, дико и хрипло от напряжения. — Не плачь! Не используй против меня это оружие!
Его мать плакала; на лице выражение мученичества, рука ее прижата к сердцу, словно его пронзила острая боль. Им овладело нечто вроде бешенства. Она использует слезы, чтобы заставить его замолчать, чтобы он подошел к ней — как он привык делать, — чтобы она могла обнять и поцеловать его и сказать ему, как она его любит, и что живет только для него, и что желает ему только самого лучшего. Но он не мог заставить себя подойти к ней. Он не мог сейчас даже подумать о том, чтобы поцеловать ее. Между ними возник огромный разлом, которого этого он не мог преодолеть, по крайней мере сейчас. Он знал, что позже, когда это состояние пройдет, он почувствует страшные угрызения совести, но сейчас он ничего не мог. Он сделает этот шаг навстречу ей в другой раз, он выразит ей свою любовь, хотя бы косвенно, но потом, потом. Разгневанный, он выскочил из кухни, хлопнув дверью, и бросился на большую кровать. Эти сцены были так отвратительны! Позже, когда он немного успокоился, он возвратился на кухню. Он извинился перед ней, зная, что иначе будет терзаться весь вечер.
— Мама, — сказал он спокойно, холодно, наполовину овладев собой. — Я не люблю этих ссор с тобой, но постарайся ты понять. Все, что другие люди считают правильным, меня не интересует. Я не выношу этого. Я не похож на других людей. — И затем, ссылаясь на слова, так часто повторяемые его отцом, слегка застенчиво улыбнувшись, он прибавил: — В конце концов, Сондорпф я или нет?
* * *
В 1919 году Вилли Сейерман имел восемь залов для просмотра кинофильмов, дающих хорошую выручку, в рабочих кварталах. Вдобавок к имеющимся кинотеатрам он занялся прокатным бизнесом. Существование контор, распределяющих картины, которые сами этих картин не делали, а были только посредниками между кинопроизводчиками и теми, кто демонстрирует фильмы, всегда раздражало Сейермана, так что в конце концов он сам решил заняться этим делом. Прибыль здесь можно было получить без особых затрат, и Сейерман не видел, почему бы ему не заняться этим. Его контора "Прокат Превосходных Картин" была сравнительно небольшим предприятием; но она была связана с солидными студиями, снимающими наиболее ходовые фильмы. Дело он имел в основном с иностранными фильмами и сомнительными комедиями, а также с фильмами о путешествиях — словом, со всем тем, что наиболее крупные прокатчики-демонстраторы не хотели брать. Он рассматривал прокат как побочное занятие; главной его заботой были кинотеатры, ежедневно собирающие реальные деньги. По этой причине он поручил вести дела в "Прокате Превосходных Картин" Александру. В целом это были хорошо отлаженные операции. Распределитель записывал договорную сумму за право давать в прокат определенные картины или серию картин — на своей территории. Первоначальные издержки от пересылки денег производителям составляли от 35 до 50 % от возможной выручки. Создатели картин имели право проверять книги учета, чтобы удостовериться, что их не надувают, но держатель таких книг был, как правило — особенно при небольших партиях продукции — не всегда надежен. Для Сейермана, погруженного в работу со своими кинотеатрами, это вообще являлось делом незначительным, — он считал это нормальной практикой бизнеса и не относился как к чему-то нечестному к факту существенного занижения суммы выручки на бумаге, тем самым сводя сумму назначенную создателям фильма, к абсолютному минимуму. Зная, что невыгодность больших обменов служит как бы оправданием и что прокатчики, так или иначе, все равно получат выручку от ленты в гораздо большем размере, чем первоначально затратили на ее получение, к нему приходили в основном низкосортные производители-поставщики, да и то лишь до тех пор, пока не были сметены более солидными компаниями. В таких обстоятельствах было весьма сомнительно, что "Прокат Превосходных Картин" вырастет когда-нибудь во что-нибудь крупное. Предложение Александра просматривать некоторые картины до того, как "Прокат Превосходных Картин" согласится взять их для дальнейшего распространения, не вызвали у Сейермана особого энтузиазма. Он думал, что это пустая трата времени. Картины о путешествиях по Африке были картинами о путешествиях по Африке, и короткометражки Стенли Лупино были короткометражками Стенли Лупино. Зачем тратить время на просмотр дешевых лент? Главное здесь определить масштабы платежей, и если удается заплатить меньше цен, существующих на рынке, Сейерману этого вполне достаточно. Но если Александр желает тратить свое время, — он подчеркивал: свое собственное свободное время — Сейерман не станет возражать против его занятий просмотрами. Александру же эти просмотры нравились, потому что на них он знакомился с некоторыми создателями картин и в разговорах с ними узнавал о стоимости картин, и на какую выручку может рассчитывать постановщик, когда деньги начинают поступать с разных рынков. Скоро — хотя в школе у него были сложные отношения с арифметикой — он научился производить вычисления в уме в то самое время, как небрежно разговаривал с кем-нибудь на совершенно не относящуюся к финансам тему. В деловых отношениях он не робел перед постановщиками и не стеснялся их; как представитель покупателя, он обращался с ними вежливо и уважительно, но не более того. Его мнением дорожили. Если лента ему нравилась, постановщики были, естественно, довольны. Если же он разочаровывался в ленте, то они были разочарованы тем, что он разочарован лентой. Действительно, он был в деловых отношениях с людьми нижнего эшелона бизнеса, но никто из этих людей не льстил ему, не искал его расположения, отношения были вполне естественными.