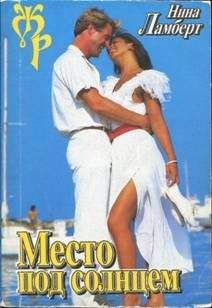Это меня сначала обрадовало, обнадежило. Я решила, что теперь непременно последует свадьба. Когда Паоло узнал о моем секрете, надо отдать ему должное, он и глазом не моргнул. У него, однако, было преимущество. У мужчин всегда найдется в запасе какое-нибудь преимущество. Паоло велел ничего не говорить маме, посоветовал подождать с визитом к врачу, сказал, что поговорит с моим отцом, что все объяснит, что нечего волноваться.
А потом как-то я пришла из школы и узнала, что Паоло вынужден был срочно вернуться в Италию. Мама сообщила, что он получил из дома письмо с грустными вестями о болезни матушки. Мне Паоло оставил записку под подушкой, откуда следовало, что уехал он ненадолго, скоро вернется, а еще раньше напишет длинное письмо.
Я ждала, ждала и ждала. Ни строчки. Сказать родителям о том, что произошло, я не смела. Но беременность развивалась, начал выделяться живот, и я знала, что недалек час, когда мама заметит это. Не выдержав, я написала Паоло сама: спрашивала о здоровье его матушки, сообщала, что скоро мне придется рассказать о ребенке своим родителям. Просила его отправить папе письмо, объяснить, что мы хотим пожениться. Писала, что люблю, что не могу жить без него, скучаю и все такое прочее.
Ответ я получила, правда, не от Паоло. От его жены. От матери двух его законных детишек, с которыми он жил в Италии. Можешь представить, что было в том послании. Образно выражаясь, мне выцарапали глаза — на бумаге. Эта женщина писала, что своего ублюдка должна растить только я. Она называла меня исключительно одним словом, которым, кстати, назвала меня и родная мать, когда я призналась ей во всем. Это слово puttana, то есть шлюха и даже хуже. Ни в одном разговорнике ты его не найдешь. Мать впала в истерику. Потом я думала, она убьет меня в гневе. Папа, наоборот, затих, побелел, сжался. Он не сказал мне ни единого слова. Кажется, если бы я умерла, их горе и отчаяние были бы не такими страшными.
Об аборте не могло быть и речи. Католические убеждения не позволяли. Зато они позволяли сделать все, чтобы скрыть мое положение от людских глаз, а особенно от младших сестер. Габи, по-моему, догадывалась — ей тогда было уже двенадцать, но, разумеется, в семье никто не обмолвился о моих неприятностях. У родителей возник план, совсем как в романах: меня отправляют к дальним родственникам в чужие края, где я живу до родов. После этого младенца усыновляют. Моего мнения даже не спрашивали. Они понимали, что я страдаю, но были уверены, что причина тому — беременность без замужества, то есть по итальянским меркам позор, бесчестье. Никому в голову не приходило, что я уничтожена не из-за ребенка, а из-за того, что меня предали.
Карла сделала паузу, стараясь унять дрожь в голосе, сдержать едкие слезы.
— Девочка моя милая, — прошептал Джек, — это древняя как мир история, самая грустная на свете. Тебе не в чем себя винить. Такое случается сплошь и рядом.
— А я еще не закончила, — безжизненно, отрывисто выговорила она. Смысл страшных слов никакие интонации не изменят. — Маме выписали транквилизаторы, настолько расшатались тогда ее нервы. Флакон с таблетками она держала в нашей общей аптечке. Выход напрашивался сам собой. Проще не бывает. Я взяла весь флакон.
Самоубийство — смертный грех, как и убийство, но все круги ада я уже прошла. Мне нечего было терять. Я нашла легкий, безболезненный способ уйти из жизни, к которому прибегают самые малодушные создания. Поздно вечером одна за одной я выпила все таблетки в полной уверенности, что смерть настигнет меня во сне. Наверное, так и случилось бы, если бы кинжальная боль в животе не разбудила меня раньше, чем началось действие лекарства. Бедная Габи проснулась от моих стонов, подняла весь дом…
Для папы это было уже слишком. Через неделю у него отказало сердце.
В глазах Карлы застыла пустота. Джек молчал, только обнимал ее все крепче.
— Ты понял? Понял? — хрипло выдавила она.
Джек все понял. Нежный, но жадный к жизни росточек взлелеивали в оранжерее. А потом вдруг выбросили на мороз. Не удивительно, что он превратился в хрустально-ледяную веточку.
— Папина смерть, — продолжала Карла, — поставила точку в мамином счастье. Безмятежная семейная жизнь рухнула. Произошла нравственная и финансовая катастрофа. Мама обожала отца, обожали его и мы, дети. Я знаю, что ты скажешь: он все равно рано или поздно умер бы. Да, я тысячи раз пыталась убедить себя в этом, но не сумела. Так и живу с ощущением, что это я убила его. Джек, он был такой славный, ласковый, веселый, так любил нас… А я так жестоко обошлась с ним, нанесла такой удар. В последние часы перед смертью он уже не мог говорить. И я не знаю, простил ли он меня…
Слезы хлынули потоком. Джек вспомнил больницу, сердечный приступ Бена и, наконец, понял, отчего тогда безудержно и безутешно рыдала Карла. Сейчас он не успокаивал ее. Что тут скажешь? Пусть выплачется.
— Наверное, поэтому я и стала актрисой, — наконец справилась с собой Карла. — Своего рода побег от реальности. Я не смогла избавиться от чувства вины, чувства ненависти к себе. Во мне стали развиваться навязчивые страхи, и больше всего я боялась своей сексуальности. Навеки я зареклась от риска оказаться униженной. Я поклялась избавить себя от подвохов, которые таятся в плотских отношениях. Легче всего это можно сделать, превратившись в кого-то другого. Чем я и занялась. Перевоплощалась я не только на сцене, но и в жизни. Происходило это медленно, но в результате я сознательно и полностью изменила свое лицо и стала той, какой ты меня впервые увидел в «Максвелле». Целеустремленная, хладнокровная, уверенная в себе и безразличная женщина под именем Карла Де Лука. К себе настоящей я никого не подпускала, доспехи мои были крепки и надежны. Они не подводили меня. До… до сегодняшнего дня.
Признание было сделано. Фитцджеральд испытал шок. Господи, полыхнуло у него в сознании, что же я наделал? Карла почувствовала себя под угрозой полной капитуляции и замолчала.
— Карла… — с трудом произнес Джек. — Я ни в коем случае не хочу причинять тебе боли. Тебе и так досталось. Но неужели тебе пришло в голову, что ты… что ты полюбила меня?
В устах другого мужчины эти слова прозвучали бы самодовольно, даже надменно. Но то, как они были произнесены — искренне, горячо, с трогательной неуверенностью — придавало им совсем другой смысл. Карла сразу ожесточилась, вовремя вспомнив, что ей надлежит быть актрисой. Отказаться от всего, порвать сейчас отношения с Джеком, как она собиралась сделать, значит, только подтвердить его худшие подозрения, превратить себя в жалкое создание, если не в посмешище. Она прямо и гордо взглянула Фитцджеральду в лицо, и только на мгновение блеснул в ее глазах коварный огонек.