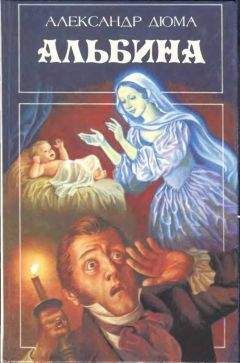– Здесь нет бокалов. Так что…
– Откуда ты узнала? – он едва не выронил бутылку и конфеты.
– Я еще не забыла твои привычки. Душевный разговор в сочетании с дорогим вином.
– Да, да, разумеется, – ни к селу ни к городу промямлил Дмитрий, открывая бутылку. Пока он сопел над пробкой, Полина сняла пленку с коробки. Открыла, взяла конфетку в виде сердечка, осмотрела ее со всех сторон и положила обратно.
– Давай выпьем.
– Давай. – Красное вино, разлитое по чашкам, – это походило на что-то из студенческой романтики, но тогда было совсем иное настроение. Вино веселило, а в этот день Полине хотелось плакать. По всем правилам вино в таком состоянии пить нельзя – станет еще грустнее.
– Я пью за нас.
– А я, чтобы согреться, – нашлась Воробьева и быстро выпила содержимое своей чашки.
– Твои любимые конфеты.
– Цветы, вино, конфеты – стандартный набор. Ты не оригинален, Дима.
– Я не стремился быть оригинальным. Я просто хотел, чтобы ты поняла: я ничего не забыл. Это чудовищная ошибка, моя ошибка, и я попытаюсь ее исправить.
– Даже машину зачастую не может починить опытный механик. Что говорить о человеческой душе?
– Поля, я же здесь. Ты слышишь, я здесь, я хочу получить прощение…
Полина дождалась, пока он снова наполнит ее чашку. Сделала пару глотков.
– Я ни с кем не могла говорить о тебе. Боль была невыносима, но я жила с ней. Днем еще куда ни шло, но вечера… Сначала я ждала, а потом придумывала оправдания твоему молчанию. Когда моя фантазия истощилась, я поняла, что больше ничего не будет. – Полина проглотила мешавший говорить комок. Выпила еще вина. – Ты спросишь, почему я сама не позвонила?
– Да, я задавал себе этот вопрос.
– Когда? Через неделю? Две? Три? Точного дня ты не назовешь. Просто однажды… Ты понял, что я все еще нужна тебе, что ты рано решил уйти в самостоятельное плавание.
– Плавание, полет – как угодно, – усмехнулся Шахов. – Только не в этом дело.
– Нет, Шахов. Теперь ты не сможешь меня обмануть. Ты вернулся только потому, что без меня закончится все, что тебе так нравится, ради чего ты затеял всю эту возню с Полиной Воробьевой.
Дмитрий молчал. Наверное, это был тот момент, когда нужно было возражать, стучать кулаком по столу и доказывать, что она ошибается. Но у него не было сил бороться с этой абсолютной правдой. Поэтому он взял конфету и принялся с очень умным видом ее разжевывать.
– Знаешь, ты совсем ничего не знаешь обо мне. Мы как-то все время не решались заглянуть в душу друг другу. Все как-то поверхностно. Любовные утехи, масса удовольствий. Тебя это наверняка устраивало, а я… Я ждала. Перед тобой лежала открытая книга, но ты не потрудился полистать ее страницы. Она была тебе неинтересна, хотя вслух ты говорил обратное. Я была готова отвечать на все твои вопросы, но ты их не задавал. Ни о моем детстве и родителях, ни о моей юности и первой любви, ни о мужчинах, которые были в моей жизни. Ты не спрашивал, что для меня значит любовь к тебе.
– Я все чувствовал. Мне не нужно было объяснять, – попытался оправдаться Дмитрий. – К тому же однажды ты сказала, что я – твое все.
– Неужели? Слабачка… – Полина поднялась и взяла с подоконника пачку сигарет.
Шахов и сам только сейчас понял, как хочет курить. Взяв предложенную сигарету, он размял ее в пальцах. Воробьева поднесла зажигалку ему, потом закурила сама.
– Сейчас еще не поздно, – выпустив широкую серую струю дыма, сказал Дмитрий.
– Ты о чем?
– Заглянуть в душу.
– Разве только для того, чтобы было легче расстаться. – Полина стряхнула пепел в покореженную крышку, оказавшуюся на столе.
– Тогда зачем? – Шахов пожал плечами. – Душу обнажают, чтобы стать ближе.
– Моя душа умерла, Дима, – коротко и убийственно спокойно произнесла Воробьева. Она откинулась на высокую спинку стула, вызывающе посмотрела на своего мучителя. Как ненавидела она себя за то, что продолжала любить его! Только ему об этом знать не обязательно.
– И я – убийца… – обреченно выдохнул Шахов.
– Ну что ты. Это случилось гораздо раньше. Ты только помог мне убедиться в этом окончательно.
– Я не уйду отсюда, пока ты мне не расскажешь.
В его глазах была решимость. Оставалось понять, стоит ли говорить о том, о чем она запрещала себе даже думать. Собственно, чего ей бояться? Все самое страшное уже произошло. Хуже не будет. Стирая улыбку с лица, мы становимся жестче. То, что нужно.
Сломав от волнения сигарету, Полина тут же закурила другую. Закинув ногу за ногу, женщина какое-то время молчала. Шахов не решался ее окликнуть. Казалось, ее больше нет в этой комнате, таким отрешенным стало ее лицо. Наконец она вздохнула и начала. Осипший негромкий голос выдавал сильное волнение. Слова давались ей с трудом. Дмитрий пожалел о своей настойчивости. Эти воспоминания могут окончательно выбить ее из колеи. Но делать нечего. Просил – получай.
– Мое детство. Начинать нужно с него. Я помню себя лет с трех, хотя мне никто не верит. Даже мама. Это все потому, что сама она ничего не помнит или не хочет помнить. Единственное, о чем она регулярно вспоминала – о дне, когда я родилась. И вовсе не потому, что мое появление стало светлой страницей ее биографии. Роды были очень тяжелыми: узкий таз роженицы и ребенок, лежащий поперек. Врачи решали, кого спасать. Поставив отца в известность, они принялись спасать маму. Ты слышишь, Шахов, уже тогда, еще не увидев меня, не услыхав моего первого крика, от меня отказались.
Полина замолчала. Сигарета дрожала в ее тонких пальцах. На нее нахлынула и сбила с ног очередная волна боли и отчаяния. Дмитрий не нашел ничего лучше, как пожать ее руку, безжизненно свисающую со стола. Холодные пальцы затрепетали и затихли. Полина бросила на него быстрый взгляд, в котором Шахов увидел благодарность.
– Но я выжила. Вопреки всем прогнозам. Я оказалась крепким орешком. Вот поэтому судьба не устает проверять меня на прочность. Долбит, долбит… Короче говоря, я росла у мамы с папой единственным болезненным, но очень смышленым ребенком. Каждый раз, когда я заболевала и рушила планы взрослых, мама сокрушалась и говорила:
– Лучше бы дурочкой росла, но здоровой.
Мне почему-то не хотелось быть дурочкой, но и болеть тоже надоело. Вечно ангины, фарингиты, тонзиллиты. Нужно было закаляться, я слышала об этом со всех сторон. Родители, тетя, их знакомые – все твердили одно и то же. Девочку нужно отдать в спорт. Я выбрала фигурное катание. Прозанималась недолго – сломала ногу. На этом занятия завершились. И вообще все хорошее в моей жизни с того момента закончилось. Что-то произошло с нашим домом. Находиться в нем было невозможно: родители ругались, мать закатывала истерики. Отец все чаще дежурил по ночам. Они у меня оба врачи. Один умнее другого. Решили проверить, кто кого быстрее сведет с ума. Может, отец оказался умнее, потому что в один прекрасный момент он собрал вещи и сказал, что уходит. Навсегда.