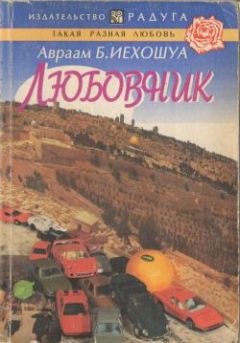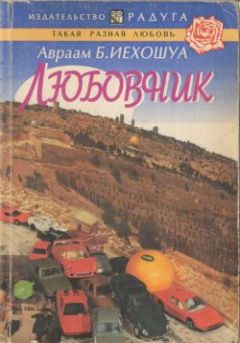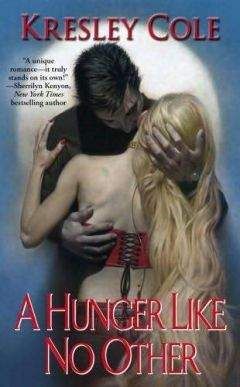И еще эти стрелки, ползут еле-еле, до рассвета часов пять, не меньше. Я сижу в кресле, уже не могу даже лежать, готова разреветься.
Интересно, а что с этим человеком, стучащим на машинке, я почти совсем забыла о нем, о человеке, который печатает на машинке по ночам в доме на той стороне вади. Я иду в ванную и через маленькое окошко, выходящее на другую сторону, на вади, ищу его освещенное окно. Он там, честное слово, привет этому человеку, стучащему на машинке, пишущему по ночам. Сидит у своего стола и трудится вовсю. Мой ночной товарищ.
Несколько недель тому назад я обнаружила его совершенно случайно. Холостяк? Женатый? Кто его знает. Днем жалюзи опущены, и только ночью виден его одинокий огонек, он работает над чем-то, пишет и пишет. Каждый раз я решаю сходить туда, за вади, найти его дом и узнать его имя. Я бы позвонила ему и сказала: «Господин, стучащий на машинке, я слежу за вами по ночам с другой стороны вади. Что вы пишете? Исследование? Роман? О чем? Напишите о бессоннице у пятнадцатилетней девчонки, о какой-нибудь ученице десятого класса, которая каждую четвертую ночь мается без сна в своей кровати»… На глаза у меня наворачиваются слезы…
Я быстро одеваюсь, снимаю пижамные штаны и надеваю толстые шерстяные брюки, на пижамную кофту набрасываю большой шарф, беру зимнюю куртку, папину меховую шапку, гашу свет во всем доме, открываю входную дверь, зажимаю ключ в кулаке, спускаюсь по темной лестнице, выхожу на улицу. Маленькая ночная прогулка около дома. Сто метров по склону, до поворота, где погиб Игал, и обратно. Если бы мама и папа знали об этой прогулке, они убили бы меня. Сейчас полтретьего, на ногах у меня домашние туфли, ступни замерзли, а я, заглядевшись на звезды, бреду по пустынной мокрой улице. Вдруг какая-то машина со слепящими фарами промчалась мимо по склону и затормозила метрах в пяти от меня. Я застываю на месте. Машина быстро катит назад, в кабине зажигается свет, кажется, мной заинтересовались. Может быть, думают, что я проститутка? От страха я роняю ключ в лужу, из машины кто-то вылезает, кто-то высокий, улыбается. Я поднимаю ключ и бегу обратно, взбираюсь по лестнице, влетаю, запыхавшись, в дом, захлопываю дверь, быстро раздеваюсь и залезаю с головой под одеяло.
Чем все это кончится? Эта ночная жизнь. Что грызет меня? Ведь все совсем неплохо. Хорошие подруги, дома меня балуют, мальчики начинают тайком влюбляться в меня, я-то знаю, не говорят ничего, но уже не могут скрыть – я чувствую на уроках их взгляды, они буравят меня, скользят по моим ногам. Кто-то из двенадцатого даже пытался всерьез закрутить со мной роман. Большой парень с хмурым лицом и прыщами на лбу продержал меня как-то целый час у школьного забора и говорил, говорил, не знаю о чем, сплошной сумбур, сумасшедший какой-то. И как только мне удалось отделаться от него?
Так почему же все-таки я не могу уснуть даже сейчас, в полтретьего ночи, когда уже замолкли все радиостанции, когда я чувствую себя совершенно разбитой? А завтра у меня семь уроков и контрольные по истории и математике, которую я не приготовила.
Одеяло снова сброшено, я встаю, голова словно свинцом налита, шатаюсь, зажигаю свет, натыкаюсь на мебель, намеренно поднимаю шум, иду в ванную попить, смотрю усталыми глазами в сторону сидящего за пишущей машинкой человека, но он уже не печатает, голова его покоится на машинке. Даже он уснул.
Я вхожу в спальню родителей, стою на пороге. Спят себе, как младенцы. Начинаю тихо всхлипывать: «Мама, папа» – и ухожу. Сначала в бессонные ночи я будила их, маму и папу, кого вздумается, а иногда обоих вместе. В сущности, не знаю, для чего, просто от отчаяния. Главное, чтобы перестали спать и думали обо мне. Мама отвечала тотчас же, словно она все время не спала, а поджидала меня. Но это только кажется: не успев закончить предложение, она снова засыпает, будто в бездну проваливается.
Разбудить папу не так-то просто. Сначала он издает глухое ворчание, бормочет какие-то глупости, не понимает вовсе, кто говорит с ним, как будто у него детей целый выводок. Пока я не коснусь его, он даже головы не поднимет, но если уж проснулся, то сон у него как рукой снимает, он даже встает с кровати, завернув по пути в уборную, входит ко мне в комнату, садится рядом на стул и начинает задавать вопросы. «Что случилось? Что тебя мучает? Я посижу с тобой, пока ты не уснешь». Он укрывает меня одеялом, гасит свет, подкладывает маленькую подушечку себе под голову и медленно-медленно начинает засыпать. Мне жаль его. Через четверть часа он просыпается и шепчет: «Ты спишь, Дафи?» А у меня сна ни в одном глазу, но я молчу. Тогда он ждет еще немного, встает и, покачиваясь как лунатик, возвращается к себе в кровать.
Больше я не бужу его. Какой толк? Как-то, когда я вошла, чтобы разбудить его, он сказал: «Говорю тебе, уходи отсюда» – таким ясным голосом. «Что?» – с обидой переспросила я. Но потом поняла – он говорит во сне. «Папа!» – шепотом окликнула я его, но он не ответил.
Слезы. С добрым утром, вот я и плачу. Я плачу под одеялом от жалости к себе, усталым горьким плачем. Уже четыре часа утра. Что же это такое деется?
Я поднимаю жалюзи, приоткрываю окно, безжалостная, бесконечная ночь простирается над миром. Но вот небо начинает светлеть, медленно движутся тяжелые облака, громоздятся на горизонте одно на другое. Дует утренний ветер, но мне становится все жарче и жарче, я откидываю одеяло, расстегиваю пижамную кофточку, подставляю ворвавшейся прохладе ноющую грудь, сбрасываю подушку на пол, лежу словно мертвая – руки раскинуты в стороны, ноги раздвинуты. И постепенно, ощущая запах дождя и глядя в бледнеющее небо, начинаю засыпать. Это не настоящий сон, просто части тела становятся легче, как будто исчезают. Сначала нога, потом рука, спина, еще одна рука, волосы, голова. Я сжимаюсь до размеров маленькой монетки, экстракт самой себя. В мучительно сжигающем пламени выплавилась маленькая огнеупорная монетка.
Мама свежим голосом будит меня утром, стаскивает с лица одеяло (папа, как видно, укрыл меня утром, перед тем как выйти из дому), говорит: «Дафи, Дафи, вставай же, ты опоздаешь».
А я ищу свои глаза, где они? Куда пропали мои глаза? Я лежу как убитая и ищу глаза, чтобы открыть их, слышу, как мама плещется под душем, слышу свисток чайника.
Когда я с трудом поднимаю тяжелые, как камни, веки, окно открыто, уже светло, и через него я вижу плоское и серое зимнее небо. А между небом и землей, как маленький заблудившийся межпланетный корабль, – маленькое лиловое облачко, которое лишило меня сна.
Входит мама, она одета, в руках сумка.
– Дафи, ты с ума сошла? Сколько можно спать…
Что-то вроде экскурсии? Школьная экскурсия, но не просто экскурсия. Лагерь возле большого гористого города, смесь Иерусалима и Цфата, вдали виднеется большое озеро. Масса молодежи, серые палатки, кишащие школьниками; здесь ребята не только из нашей, но и из других школ. Включая и бывших учеников из моей школы, из старших классов, одетых в хаки, – вечные юноши, тренируются с палками в руках, выстроившись в шеренги. Очевидно, идет война, и на возвышенностях вокруг стоят войска. Полдень, я брожу по этому огромному лагерю, ищу учительскую, перепрыгиваю через колышки палаток, продираюсь сквозь колючки, лавирую среди камней и всякой лагерной утвари вроде закопченных кастрюль, пока не замечаю учеников из класса Дафи, а также Сарру, и Ямиму, и Варду в длинных и широких юбках цвета хаки, и завхоза, и Йохая, и секретарш – вся канцелярия школы переехала сюда со своими машинками и папками. Здесь же и Шварц, одетый в британскую форму, выглядит он молодым, и загорелым, и очень эффектным с тростью в руке.