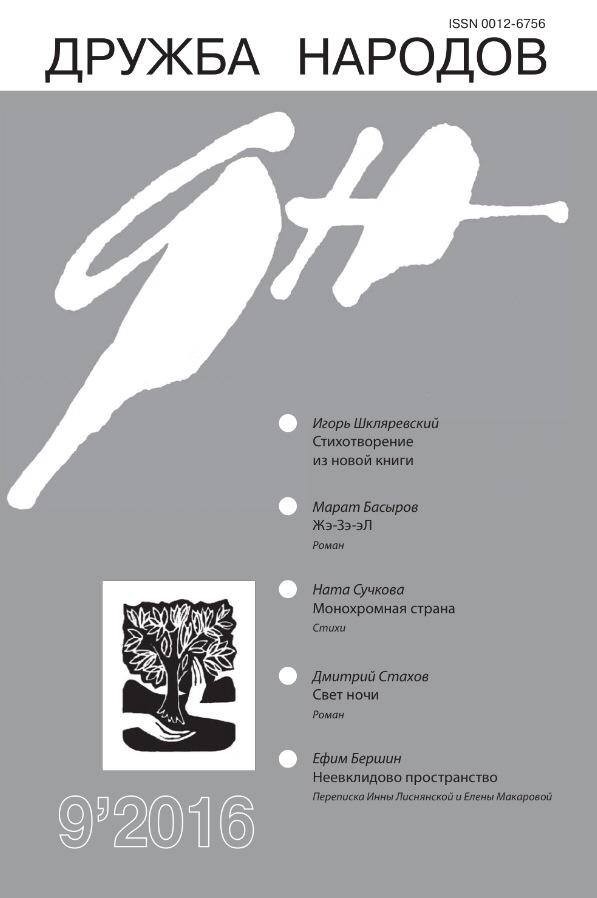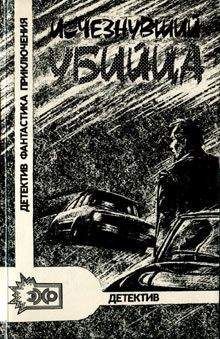не выйдет.
Сквозь дождь, мимо болот и темных лесов мы едем под квартеты Бетховена. Сворачиваем с федеральной трассы и едем по узкой, петляющей между холмами дороге. За березками и елями темнеют зеркальца озер. Низко висят облака. Навстречу, по обочине, идут неприбранные, расхристанные грибники. Тамковская и Извекович обсуждают работу, которой нам предстоит заняться. Извекович говорит о коллективном бессознательном, о том, что наши архетипы не допускают возможности того, что покойники встают из могил и покупают колбасу. Это нечто нам чуждое, наносное. Это чужие архетипы.
Я помалкиваю, вопрос о подлинном и наносном — один из самых скользких, хотя и хочется сказать, что архетипы не могут быть ни чужими, ни своими, только позволяю себе вставить — мол, покойник покупал не колбасу, а пирог с лимонной начинкой. Тамковская раскрывает лежащую у нее на коленях папку и говорит, что именно колбасу, а не пирог, что покойник даже устроил скандал из-за того, что у колбасы был просрочен срок годности. У меня нет никакого желания спорить, и я говорю, что колбаса, пирог, сыр или замороженные котлеты «Богатырские» — не суть важно, главное, мы имеем дело со вспышкой галлюцинаторного бреда, который свойствен шизофрении, что такой случай, соединяющий зрительные, слуховые, тактильные галлюцинации, уникален, а его эпидемиологическое распространение уникально вдвойне.
— И бред этот распространился из-за того, что тот первый человек, который якобы увидел расхаживающего по улицам покойника, был значим для прочих заразившихся, — кивает Извекович. — То есть продуцент бреда — не оживший покойник, которого, конечно же, не существует, а тот, кто его первым якобы увидел. Обладая высоким социальным статусом…
Извекович любит объяснять очевидное.
— Однако истоки бреда и даже личность продуцента для нас вопрос второстепенный, — говорю я.
— Вот как? — Тамковская сегодня удивительно агрессивна. — Мне всегда казалось, что, найдя истоки, можно представить себе и русло, по которому все потечет.
— Это далеко не так…
— Да что вы говорите!
— Именно! Ведь тогда нам придется заняться интерпретациями. И даже если мы сможем выделить продуцента, нам придется выслушать его интерпретацию происходившего, на которую тем или иным образом, но с необходимостью будет наложена интерпретация наша собственная. И мы исказим изначальную реальность. Весь спектр ее, от той, что существовала фактически, до той, которая имелась у продуцента как результат его…
— Как интересно! — в голосе Тамковской плещется ирония. — Ну и как же нам получить неискаженную реальность?
— Нам не нужна реальность, — я встречаюсь в зеркале со взглядом Извековича: он вообще смотрит на дорогу? так недалеко и до беды! — Нам нужно понять механизм воспроизводства бреда. У продуцентов, а их, несомненно, несколько, он, скорее всего, одинаков. Затем вычленить способ его передачи от человека к человеку. И комплексно разрушить и то, и другое.
— Это что-то новенькое! — фыркает Тамковская.
— Ольга Эдуардовна, сейчас дело не в наших теоретических разногласиях. Главное — зачем этот Лебеженинов восстал из мертвых? Говорил ли он с теми, кто первый его увидел? Что они думают? Эти, пока скрытые, пружины бреда помогут понять — как был запущен весь механизм.
— Вы что, — Тамковская так резко поворачивается ко мне, что ремень безопасности врезается ей в шею, — вы хотите сказать — мы должны отнестись к бреду не как к бреду, а как к яви? Ну, знаете, Антон Романович!
Я, глядя в мутное окно, размышляю о том, что вполне может быть и так, что прочие действительно заразились, но тот первый или первые, продуцент или продуценты, не бредил, что его собственный или их общий бред не был бредом, что покойник в самом деле ходил по улице, хотел купить пирог, колбасу, котлеты. И мне приходит в голову, что сам покойник запустил машину бреда. И нам надо найти не какого-то продуцента, жителя городка с высоким социальным статусом, а разрушить бред самого ожившего покойника. Да! Такой крутизны мы еще не достигали. Это высшая точка. Апофеоз. Апогей. Зенит…
…И тут я ощутил легкое дуновение, словно кто-то наклонился и подул мне в лицо. Причем — с нарастающей силой. Поток воздуха становился все холоднее и холоднее. Глаза начали слезиться. Я вздохнул полной грудью. Воздух был наполнен каким-то горьким ароматом. Пожухлые цветы, сухая плесень, нотки цитрусовых, немного табака, мелкая пыль, окалина.
— Закройте, пожалуйста, окно! — громко попросил я.
— Оно закрыто, — ответил Извекович, они с Тамковской обменялись взглядом, Тамковская пожала плечами, мимо нас пролетела серебристая машина со знаком «такси» на крыше, и я посмотрел на часы, попросил остановиться.
Черпнув ботинком воды в кювете, по мокрой траве иду в кустики. Прокладка вся в крови. Смотрю на часы и достаю телефон. Врач начинает выговаривать за то, что я уехал, говорит, что если у меня такое наплевательское отношение к собственному здоровью, то ему очень жаль. Я вздыхаю. Он говорит, что мне необходим постельный режим. Я отвечаю, что был вызван на работу, что выполняю важное, очень важное поручение, что моя работа… Врач перебивает, говорит, что я, в конце концов, взрослый человек. С этим нельзя не согласиться. Вокруг меня — мятые пластиковые бутылки, обрывки бумаги, кучки полуразложившегося дерьма, надо мной — блекло-голубое небо, верхушки тонких берез, с одной на другую перелетает маленькая птичка с розовой грудкой. Врач говорит, что результаты повторных анализов еще не готовы, а вот взятые сразу после операции пробы плохие. Плохие — в каком смысле? Во всех, Антон Романович, во всех. Но вы же говорили, что они внушают вам опасения, и не говорили, что они плохие. Вы говорили об опасениях. Опасность не означает, что… А сейчас говорю, что ваши пробы — плохие! И — опасные. Понимаете? Да… Позвоните мне через два дня. И поскорей возвращайтесь. Договорились? Договорились. Вам нужен постельный режим. Понимаете? Понимаю…
…Я пошел к шоссе, внимательно глядя под ноги. Через два дня. Значит — в пятницу. Нет, пятница будет через день. Значит — в субботу. В субботу утром мой врач обычно долго спит, значит — где-то около часа. Главное — не забыть. Не забыть.
Извекович стоял возле открытой правой передней двери, Тамковская сидела положив ногу на ногу. У нее красивые