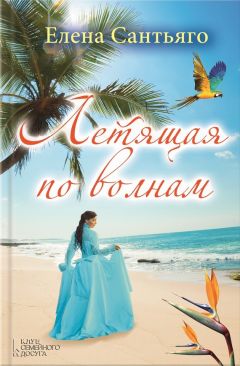«Кто мог винить их, — размышлял Рафаэль. — Кто мог упрекнуть этих обитателей мира отходов, утиля, помоев в том, что, столкнувшись неожиданно с самой сутью сияния, захотелось овладеть им, как поступил бы любой алхимик или маг, внезапно почувствовавший необходимость перевоплотиться, забыть на мгновение о мрачной, несовершенной человеческой природе».
В центре круга Моррис и Энграсия все еще стояли, обнявшись, медленно двигаясь в подобии ритуального танца молчания. Вдруг великанша высвободилась из его объятий и вернулась к остальным.
— Нужно петь, — призвала она, похлопывая всех по плечу, словно пытаясь вывести их из транса, в который они впали. — Лучшее средство дезинтоксикации — это пение. Жозуэ, принеси свою гитару.
Моррис подошел к металлическому контейнеру. Внимательно посмотрел на сияние и, прежде чем кто-то успел вмешаться, наклонился к цилиндру и быстрыми и четкими движениями, словно горняк, в эйфории бросающийся головой в золотой песок, разукрасил себе лицо, здоровую руку, волосы и грудь.
Всю ночь слышалось во дворе пение. Всю ночь занимались любовью Рафаэль и Мелисандра, словно таким способом хотели защитить себя от колдовских чар. Сначала они расплакались, как дети. Она обвиняла его, колотила в ярости по его груди. Они сцепились, словно изнывающие от боли дикие звери, желающие утвердить свою животную силу, превозмогая боль. При этом они щедро одаривали друг друга нежностью. Он вцепился в женщину, пытаясь найти в ней свою мать, в надежде пригреться у ее груди, позволить ей защитить себя, забыть о коже, забыть о гениталиях, забыть о трении тел, об оргазме, просто быть в теле другого человека, чтобы чувствовать себя менее одиноким, быть с кем-то.
Она, первобытная и могущественная, почувствовала вдруг, что женское начало ее тела вырвалось наружу, неся в себе материнскую долю кормления и убежища, разом рассеивая проклятия цивилизации и погружая их в блаженство инстинктов и природного начала. Ей захотелось пить и есть. Она заглянула в его глаза и в них увидела своих родителей, которые тоже занимались любовью. Словно совершая инцест, она вспомнила о всех тех ласках, которые они ей недодали, и насладилась результатом движения своих окружностей на углах и ребрах мужского тела.
Никогда еще она не чувствовала себя такой открытой по отношению к другому человеческому существу. В этот момент она поняла, почему любовь могла спасать и почему ее боятся.
Во дворе Моррис продолжал петь. Его голос выделялся среди остальных восторженной, глубокой манерой исполнения старинных гимнов и коллективных песнопений, словно это горло было населено призраками. Мелисандра закрыла глаза и снова увидела его, намазанного блестящим порошком. Вспомнила глаза Энграсии, уставившиеся на него, словно два круглых черпака, убаюкивающих его, вспомнила, как он бросился танцевать ритуальный танец, призванный вызвать дождь, под аккомпанемент алюминиевых пластин. Дождь так и не начался, несмотря на сверкающие накаленные молнии вдали, над озером. Затем они услышали, как Моррис запел красивый утешительный гимн, мотив которого витал над грязью, хламом, сверкающим порошком, взывая к сосредоточенному молчанию, к плачу:
«Прекрасен звук благодати, который спас такого несчастного человека, как я. Я был потерян, но я обрел себя. Я был слеп, но, наконец, я вижу».
Рафаэль прослезился. Он оставил щелку в окне, чтобы продолжать слушать Морриса, и слушал песни до самой зари. Казалось, будто обреченные на смерть пели, чтобы растрогать смерть. Мелисандра почувствовала себя одинокой. Она накрыла Рафаэля простыней и накрылась сама. Скоро рассветет. Но эта длинная ночь была только началом.
Они услышали, как вернулись те, кто был на пристани. Моррис не позволил больше никому прикасаться к блестящему порошку. Ничего больше не объясняя, отправил всех спать.
Рафаэль завел разговор о возвращении в свою страну.
— Твоя страна… — прошептала Мелисандра. — Если происходят такие вещи, я спрашиваю себя, зачем тогда нужна была цивилизация.
«Сколько нам еще осталось?» — подумал Моррис, закрывая лицо подушкой. Рассветный луч разогнал собрание во дворе. Он был обессилен. У него болело горло, и он едва мог говорить. Возможно, так лучше: ему нечего сказать. Ему казалось, что он все сказал в песнях, воспевая жизнь, смерть, радость и печаль. Плохо то, что теперь ему предстояло быть прямым и откровенным. Не объясняться знаками, посредством символов, а называть смерть своим именем, отсчитывая отведенные им дни, разделить смертельный приговор с Энграсией и каждым из ребят.
Ему по-прежнему казалось невероятным то, что произошло. Он должен был не просто документировать свои худшие страхи, но и испытать все это на собственной шкуре. Почему они его не послушали? Он возмутился, глядя на спящую возле него Энграсию, снова почувствовав прилив ярости и бессилие, пронзавшее его изнутри. Нет смысла злиться, сказал он себе, сдерживая желание растормошить Энграсию. Он столько раз говорил ей об этом: в любой момент, если они не будут осторожными, то могут столкнуться со смертоносной субстанцией и иметь с ней дело, даже не подозревая об этом. Поэтому — костюмы, маски, перчатки. Как об стенку горох. Невежество — одна из тех черт, которые наиболее трудно искоренить, особенно если, как в случае с Энграсией, оно почиталось за достоинство, а не за недостаток. Возможно, он сам был ответственен за это. Он, со своими речами, поносящими демонов цивилизации. Его собственная любовь к этому Богом забытому месту, к ней и ее манера быть простой, естественной, истинной. «Какая ирония! — сказал он себе, — умереть вот так. Однако было всему этому и какое-то поэтическое оправдание. Его смерть, должно быть, потрясет научное сообщество, может, она даже превратится в событие, примет политический оборот. Да. Смерть», — подумал он. Предрассветные лучи начинали пробиваться сквозь ночной мрак, словно кто-то где-то выливал целые литры пятновыводителя на черные чернила. Смерть представлялась ему непомерно длинной. В новостях, однако, повествование о ней сможет уложиться в общей сложности в несколько минут. Вся его жизнь сведется к его имени и к обстоятельствам смерти. Какие-то семейства будут слушать эту новость за едой, между разговорами о событиях дня, глядя на экран. Он почувствовал озноб и приступ тошноты. Страх. Ужас. Как это будет? — подумал он. Сколько времени до того момента, как все станет для него черным, до того, как улетучится последняя его мысль? Он боялся не за тело, а за сознание. Ему всегда сложно было убедить себя в том, что сознание останавливается подобно часам без завода, в определенный час. «О Господи, прекрати это!» — взмолился он. Провел рукой по животу в области желудка, пытаясь облегчить спазм, боль. Посмотрел на свою блестящую руку. Снова почувствовал ярость, желание расплакаться. Ни одна жизнь ничего не стоит в контексте мировой истории. Человеческие существа привыкли видеть смерть. Никого особенно не пугала безликая смерть незнакомца, сотен незнакомцев. Еще меньше их волновала смерть тех, кто жил в затерянных регионах. Поэтому так сложно было доказывать и обратить в тяжкое преступление ввоз вместе с мусором смертоносных веществ. Под предлогом, чтобы только не заразились богатые страны, эти проблемы пока затрагивали тех, кто в любом случае был обречен на преждевременную смерть, поэтому для них это считалось меньшим злом. Какая разница, какой смертью им умирать.