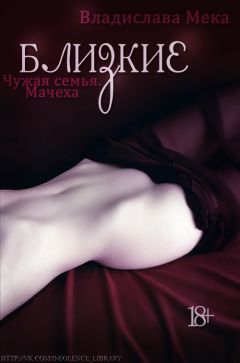— От оно чо, — проговорил он медленно. — Разбежались, значит. Ладно, тогда приглашаю без условий. Придешь? Ника придет.
Выражение лица Егора неуловимо изменилось.
—Ника? С каких это пор ты называешь ее Никой?
Жерех ухмыльнулся, явно наслаждаясь произведенным эффектом.
— С тех самых. Ну, тогда до субботы. Я позвоню в пятницу, скажу, что и как. Бывай.
Мы с Николой подошли к его машине, и спиной я буквально чувствовала взгляд Егора. Жерех явно отыгрывался за ту субботу, когда вынужден был вести меня домой после безобразной сцены у кафе и, может быть, если бы я была зла, я бы его шпильки оценила.
Но я только в очередной раз осознала, что отыгрываться не хочу. И заставлять Егора ревновать тоже, хотя Жерех почти благодушно предоставил мне такую возможность своим «Ника идет».
Я по-прежнему хотела только одного: вернуть его. Может, та суббота даст мне возможность снова поговорить? Может, теперь, когда Егор расстался с Наилей, я смогу...
— Слушай, не в службу, а в дружбу, — заговорил Никола, и я не додумала мысль, — тебе кот не нужен? Рыжий, пушистый, от кошки-мышеловки, сам тоже ловит мышей только так. Моя Апельсин Мандариновна в этот раз окотилась где-то в соседях. Привела котенка, когда уже глаза открылись. Утопить, сама понимаешь, не смогли... Возьмешь? Три месяца, ласковый, ест все...
ГЛАВА 29. НИКА
Мы совпали с тобой,совпали в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами. С пересохшим горлом — вода.
(Роберт Рождественский)
Жерех остановился сначала у своего дома. Сказав, что «я тебе сразу покажу, а ты там думай», он выбрался из машины, бегом сбегал во двор, а потом открыл пассажирскую дверь и плюхнул мне на колени бело-рыжий комок шерсти. Без всякого предупреждения.
Котик был зеленоглазый, пушистый, как Никола и обещал, и абсолютно доверчивый. Оглядевшись вокруг, он поднял голову, посмотрел на меня... и улегся у меня на коленях, как будто тут ему было самое место.
— Признал свою породу, — сказал Жерех, и, когда я не удержалась и погладила котенка по мягкой, как пух, шерсти, удовлетворенно улыбнулся. — Ну что, Зиновьева, берешь?
Папа не выносил кошек, и у нас в доме их не было, как не было и в городской квартире, пока Олежка был совсем маленький. Но я знала, что мой сын любит животных. Хрюшки, собаки, уличные коты — его руки и сердце тянулись к ним, жалели, хотели приласкать. Да и котик был прехорошенький: с белыми «носочками» на лапках и длинными усами, с ушками, в которых просвечивало что-то совсем еще по-детски розовое. Олежке бы точно понравился.
— Я поговорю с мамой, — сказала я, уже понимая, что меня победили, но все еще пытаясь быть рациональной. — А как его зовут?
— Кот, — сообщил Никола, и котик сразу поднял голову. — Принципиально не давал имя, чтобы не привязываться.
Он сгреб котенка с моих колен — мы оба даже пикнуть не успели — и горестно вздохнул.
— Ладно, даю тебе время до пятницы. В пятницу перестану его кормить, а в субботу...
— Никола, — взмолилась я, — ну что ты издеваешься!
Жерех прижал котика к груди, открывая свободной рукой дверь, и, обернувшись, вздернул брови.
— Да ладно, неужто ты думаешь, я смогу? Все ж понимаю: живешь не одна, все дела.
— Я заберу, — сказала я, окончательно признавая поражение. — Только с мамой обговорю сегодня, и завтра заберу.
— Как назовешь?
Ну хоть бы притворился, что не знал исхода своего маневра с самого начала!
— Не знаю... Рыж... — прозвище едва не слетело с губ само собой, и я тут же торопливо спохватилась, — Персик.
— Подходит, — согласовал Жерех и ушел с котом обратно во двор, чтобы сразу же вернуться и уже без задержек отвезти меня домой.
Мне понадобилось пять минут, чтобы уговорить маму взять котенка, и на следующий день Жерех привез его мне и торжественно вручил под бдительными взорами сплетничающих на бревнышке неподалеку соседок.
— Какой он крупненький для трех месяцев, — заметила мама, подавая Николе железную десятирублевку. Мы приметы соблюдали строго.
— У него и мать крупная. — Никола убрал монету в карман и кивнул мне. — Ну, бывай. До субботы.
— До субботы, — сказала я.
Я пустила котенка осваиваться по дому и вернулась к обдиранию старых обоев в кухне, чем и занималась весь остаток дня. Я была уставшей после работы — Марина все-таки ушла в декрет, одной стало труднее, просить совета у девчонок было неловко, — но тут у меня словно открылось второе дыхание. Я покрасила трубы и полночи клеила плитку на потолок, а на следующий день, вернувшись и наскоро поужинав холодной жареной камбалой — Персик одобрил — и картошкой, снова взялась за дело.
Мама пригласила двух знакомых алкоголиков, и они за бутылку водки вынесли из зала тяжелую стенку и разобрали и вытащили старые шкафы из кухни. В комнатах сразу стало просторнее и светлее, и котенку пришлось снова осваивать пространство, бродить и принюхиваться к углам. Правда, от кухни он все-таки держался подальше. Запах краски ему не нравился.
Я будто обновляла не только дом, но и себя тоже; днем, разгребая старые вещи из стенки и откладывая в сторону то, что не понадобится никогда, я чувствовала себя так, будто заодно избавляюсь от какой-то части прошлого — и осознание этого требовало осторожности и внимательности ко всему, что должно было остаться позади.
Пыльные черные пластинки с записями детских сказок и постановок, которые ни я, ни мой сын уже не послушаем никогда.Жарафрика — веселая страна, Жарафрика чудес полным полна...
Пластиковая прозрачная коробка с бисером, рассортированным по цветам, и парой недоплетенных черно-оранжево-синих фенечек.
Фотографии, кучей сложенные внутрь тяжелого, советских времен альбома в кожаной обложке. Свадьба родителей и смешной, по тогдашней моде длинноволосый папа; беременная мной мама на Черном море в коротком развевающемся на ветру платье, лысая я в ползунках, с вытаращенными удивленными глазами; папа в армии, мама в училище, их друзья и подруги, которых я никогда не видела и не увижу, потому что они были частью их жизни, а не моей...
Анкета для девочек, разрисованная цветными маркерами и украшенная наклейками.
Мое выпускное платье.
Выстиранное и аккуратно сложенное в целлофановый пакет, такое же зеленое и блестящее, каким я его помнила, оно казалось купленным буквально вчера. Я не собиралась даже дотрагиваться до него, но руки будто сами достали и развернули струящуюся ткань, пробежались по «качелям» выреза...
Как зомби я встала, приложила платье к фигуре и подошла к зеркалу, чтобы посмотреть на отражение. Я почти ждала от себя истерики и слез — ведь зачем же еще достала платье, как не затем, чтобы напомнить и в который раз пожалеть себя? — но их не было.
Не было.
Из трех зеркал трельяжа смотрела на меня не юная беззаботная девочка, собирающаяся на выпускной бал, не лишившаяся невинности предательница с дрожащими губами и размазанной под глазами тушью, но взрослая женщина, случайно наткнувшаяся на старый наряд среди вещей, которые приготовила на выброс.
В тот миг, стоя перед зеркалом с платьем в руках, я как никогда ясно поняла: я правильно сделала, что осталась. Правильно сделала, что не сбежала в этот раз, потому что куда бы ни побежала взрослая Ника она бы обязательно взяла Нику-подростка с собой, а там... рано или поздно прошлое снова настигло бы меня и заставило взглянуть себе в глаза.
И ведь, по правде говоря, мне уже не от чего было бежать.
Я рассказала Егору о своем предательстве. Я встретилась лицом к лицу с его мамой —я, трусливая Ника, еще вчера уверенная в том, что скорее умру, чем снова посмотрю Ульяне Алексеевне в глаза. Я увидела всех тех, кто мог бы меня осудить — и никто из них не осудил меня сильнее, чем я сама.
Я все еще чувствовала себя виноватой и оплакивала свою любовь, но уже не боялась. Прошлого — точно не боялась.