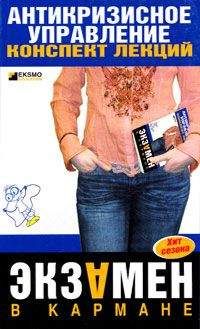Она говорила с каждым словом все звонче, и улыбалась все шире, и даже встала с мягкой банкетки, и распрямилась во весь рост, не удосужившись при этом запахнуть поприличнее полы шикарного своего пеньюара. А что, пусть видит, какие прелести теряет…
— Так что можешь купить мне теперь билет на самолет и отправить обратно! И нечего на меня кричать попусту!
Взмахнув шикарной гривой золотых волос, она гордо вышла из гостиной и с размаху уселась на кровать в красивой их спальне, и тут же прежняя решительность покинула ее. Господи, а что же дальше-то будет… Она уже так привыкла и к дому этому благополучно-сытому, и к Руди привыкла, и к городу этому привыкла, и даже к страданиям своим ностальгически-семейным привыкла…
— Альхен…
Она вздрогнула, обернувшись на прозвучавший сзади его голос. И вдруг стала слушать, что он ей говорит торопливо и уже не так раздраженно, и стала понимать наконец, за что Руди так сильно на нее гневается. С трудом, правда, стала понимать, еще не веря окончательно своему счастью… Нет, такого не может быть… Руди-то, оказывается, оскорблялся не из-за обмана ее как такового, он на нее как на мать плохую оскорблялся, разочаровывался даже, черт возьми. Вон лепечет как укоризненно, что она детей своих бросила, что нельзя быть такой плохой матерью, надо хорошей матерью быть… И что зря она так его испугалась и не поверила сразу в его мужскую порядочность, наврав ему про свою бездетность — именно это обстоятельство его и оскорбило более всего. И опять какую-то фрау Марину благодарит. Откуда она только и взялась, эта самая фрау? С неба упала, что ли? Да и неважно это, в общем…
— Руди, подожди… Я не поняла… Так ты что, не против моих детей?
— О майн готт! Какая глупая русская женщина!
Руди снова схватился за голову и даже присел от отчаяния на корточки, что у него плохо совсем получилось — аккуратненько-пивной немецкий животик помешал. И что для этой глупой русской женщины только не сделаешь — и на корточки присядешь, и с детьми ее смиришься, хоть сколько их там будет, этих ее детей, хоть двое, хоть трое, хоть целый косой десяток…
— И что, Руди, им можно будет сюда приехать, да? — на всякий случай, не веря своему счастью, снова переспросила Алла. — И они могут тут жить с нами, да? Правда?
Руди, почему-то вдруг сникнув, обошел медленно вокруг их огромной супружеской кровати, присел рядом с Аллой и ткнулся совсем по-детски в ее плечо, и обхватил ее горячими и цепкими руками. И заплакал. И забормотал сквозь пробившие его слезы о том, что у него никогда не было своих детей, и быть их не могло по причине перенесенного в детстве какого-то там заболевания, и что он всегда страдал и жутко комплексовал по этому поводу, и долго не женился по этой же самой причине, и что он постарается полюбить ее детей, и что он почти уже их любит, как любит ее, глупую и красивую русскую женщину… А его никто, никто никогда не полюбит, потому что он смешон и некрасив, потому что он только и может позволить впустить в свою жизнь вот это — купить доброе к себе расположение, а на любовь он и не рассчитывает вовсе… Алла слушала его удивленно и растерянно, и с трудом доходила до нее эта горькая мужицкая правда, и что-то вдруг оборвалось у нее в сердце и прокатилось по желудку жалостливо-щекочущим шариком, и заставило спазмом сжаться горло. Она обняла его голову и прижала к груди совсем по-матерински, и ласково гладила, и целовала в лысеющую маковку, и покачивала его в своих руках, как ребенка, и была в этот момент бесконечно, просто бесконечно счастлива…
А потом она полночи подряд рассказывала ему о своих детях, Василисе и Петечке, и какие они умненькие и красивые, добрые и воспитанные, и знают языки, и немецким тоже неплохо владеют, и хвасталась Петечкиным фигурным катанием, и Василисиным твердым мужским характером и необыкновенными способностями в учебе… Она говорила и говорила взахлеб, и никак не могла остановиться. Впрочем, Руди и не пытался ее остановить. Он лежал и любовался ею, ее жестами, счастливым смехом, горящими зеленым огнем большими глазами. Не стал он ей рассказывать той правды об ужасном положении ее детей, которую вычитал из письма неведомой ему фрау Марины. Зачем? Она так счастлива сейчас… Он просто лежал, закинув руки за голову, и слушал ее с блаженной улыбкой, и уже прикидывал в уме со свойственной ему немецкой рассудительностью, что надо бы продать этот дом и купить другой, побольше, что деньги за обучение дочери Альхен в Сорбонне он заплатит сразу, за несколько лет вперед, потому что так выгоднее, пожалуй… Насчет Сорбонны у него даже и сомнений не возникло — тут он с Альхен был совершенно согласен. Если уж давать образование девочке, то только хорошее, самое лучшее, потому что только все самое лучшее впоследствии полностью окупается… А Питер будет жить здесь, с ними. Питер будет учиться в самом хорошем и дорогом лицее, он завтра же постарается изучить всю эту информацию о находящихся в городе самых лучших учебных заведениях… А больную свекровь Альхен ему придется взять на содержание, он будет посылать ей в Россию каждый месяц необходимую сумму на сиделку…
В общем, самые хорошие мысли гуляли в голове у Руди, пока он слушал Альхен. А потом она стала учить его проговаривать имена своих русских детей правильно. С Петечкиным именем у Руди проблем никаких не возникло, конечно. Ну. Питер и Питер, он и везде Питер. А вот дочкино имя ему никак, ну никак не давалось…
— Скажи: Ва-си-ли-са! — требовала Альхен, сидя на постели и сложив ноги по-турецки. — Ну?
— Ва-ли-си… — старательно тянул за ней Руди и даже кивал от усердия, произнося каждый слог.
Альхен смеялась над ним звонко и от души, и махала руками, задыхаясь от этого счастливого смеха и думая про себя: господи, как же давно она вот так не смеялась…
— Да нет же! Господи, Руди, это же так легко! Вот послушай еще раз: Ва-си-ли-са…
— Ва-си-си…
Альхен снова захохотала звонко и откинулась в изнеможении на подушки. Господи, как же она была счастлива за свою девочку! У нее будет все, все, о чем она мечтала — и Сорбонна, и своя хорошая фирма, и свой дом будет там, где она только захочет. Европа — она большая… И у Петечки будет все. У Питера, вернее…
— Руди, а можно я полечу за ними прямо завтра? Хотя завтра, наверное, не получится. Эти ж ваши немецкие дурацкие формальности… Это ж только дня через три получится… А я им завтра позвоню! Нет, сейчас позвоню! Нет, сейчас нельзя, у них там ночь глубокая… Или позвонить?
Сомнения ее развеял Руди. Он притянул ее к себе с силой, обнял, зарылся лицом в пушистые ее рыжие волосы и заставил по-мужски на время отключиться от предстоящих приятных забот. Он очень, очень полюбил эту женщину, которая оказалась-таки самой настоящей русской и самой настоящей загадочной, да еще какой загадочной — такой неожиданный сюрприз ему преподнесла… И неправда, что они, русские женщины, только придумывают себе эту загадочность. Есть она, на самом деле есть, и притягивает к себе навечно, как магнитом, и способна сделать счастливым даже такого закомплексованного и несчастного, как он, Руди Майер, сытый немецкий бюргер…