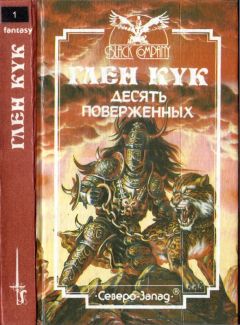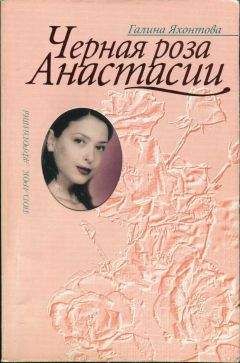— Что-то есть…
— Я скажу тебе больше: здесь все правда. Особенно, что касается мистерии и спектакля. Иди ко мне. Иди же…
За окном Останкинская телебашня, усыпанная красными огоньками, казалась похожей на новогоднюю елку. Скоро Новый год. Меньше чем через месяц. А завтра, тринадцатого декабря, у Анастасии Филипповны, день рождения.
Чем же был знаменателен этот год? Она написала детектив, который забраковал издатель. Потом погрузилась в будни эротики и даже сочинила две „сказки“, которые сгорели вместе с таинственно вспыхнувшей квартирой. По поводу этого сначала собирались вроде бы открыть уголовное дело. Но за недостатком улик разрабатывать версию прекратили, констатировав „возможное самовозгорание“.
Что еще случилось в этом году? Она встретила и бросила Валентина, открыла, что за женоненавистнической маской Гурия Удальцова скрывается мирный и добрый человек.
А еще она снова встретила свою любовь и поняла, что она была единственной.
Е-дин-ствен-ной!
Настя попросила всех приглашенных не дарить ей подарков, а принести что-нибудь выпить и закусить. И ребята приняли ее предложение на „ура“. Узбек Улугбек взялся готовить плов в привезенном с собой в Москву пудовом казане. Все узбеки возят с собой подобные ритуальные сосуды, потому что без плова жить не могут. А армяне возят большие-пребольшие кастрюли. И сегодня Грачек в одной из таких посудин собирался сварить настоящий армянский хаш. Остальные обитатели этажа, судя по отсутствию ажиотажа на кухне, собрались поздравить Настю в более интернациональных традициях. Например, бутылкой коньяка и десятком соленых огурцов.
Сидя за теннисным столом, застеленным бумажными скатертями, Настя впервые поняла, что житие в общежитии в чем-то похоже на совместное участие в боевых действиях. Между „сожителями“ возникает общность почти как между сражающимися бок о бок солдатами. И этому способствует все: изолированность от остального мира, оторванность от семей, огромная концентрация наделенных склонностью к творчеству людей на очень небольшой площади. Здесь люди как бы немножко сходят с ума, впадая в перманентную борьбу с миром, которому они вовсе не нужны, но который яростно пытается поймать их…
Настя поднялась в комнату, оставив веселиться и большую компанию, и Ростислава. Как только ее усталое тело распласталось на постели, малышка Гера, бросив удобную лежанку в кресле, прыгнула на одеяло и свернулась калачиком. Настя взяла ее под одеяло и прижала к себе. Теплое живое существо устроилось у нее на груди и даже ткнулось мокрым холодным носиком в сосок. От этого прикосновения она вздрогнула, как от неожиданного удара, волна пробежала внутри тела — от макушки до пяток.
И Анастасия поняла, что хочет ребенка, маленького и родного, своего. Она слегка испугалась, потому что никогда раньше столь земные мысли не отягощали ее Бог знает чем забитую головку. С этой безумной мыслью она и уснула.
Проворная Гера выбралась из-под одеяла и снова устроилась в кресле.
В комнате у аспирантки Марины тихо играла музыка. У нее всегда играет музыка.
— А знаешь, Настя, ты оказалась права.
— Ты о чем?
— О том, что издатели все же возьмут мой перевод Харольда Робинса. Я даже получила аванс и сейчас буду тебя угощать. Ты ведь не слишком торопишься?
— Нет. Коробов творит, а я ушла, чтобы ему не мешать.
— Я польщена, что лучшее место „не мешать Коробову“ ты нашла в моей комнате. — Марина засмеялась.
— А где твоя… мегера?
— К счастью, она сняла квартиру.
— Квартиру? Одна?
— Да нет, с абхазцем.
Кавказцы, в том числе и абхазцы, поступали в Литинститут почему-то огромными толпами, и все пять лет этими самыми толпами и передвигались с курса на курс. Чем они занимались, эти „гости Москвы“, точно не знал никто. Но очень ошибался тот, кто думал, будто они здесь писали стихи. Раньше, говорят, они промышляли в основном куплей-продажей. А на данном историческом этапе, очевидно, обсуждали планы военных действий…
— Она что же, вышла за него замуж? — поинтересовалась Настя.
— Да нет. Ее вполне устраивает, что он платит за квартиру, — объяснила Марина и с гордостью добавила: — А знаешь, ведь она с ним ушла, чтобы меня не видеть! Я ее выжила!
— И кто же теперь живет в соседней комнате?
— А никто. Она ее держит в резерве.
Насте стало весело.
— Я у тебя тут посижу? Да? — извиняющимся тоном спросила она.
— Конечно! А я пока поставлю тушиться мясо. Купила классный кусок говядины. Осталось только его нашпиговать разными разностями и полить столовым вином.
Она вышла из комнаты, неся перед собой в небольшом тазике мясо, специи, бутылку винного уксуса, нож, большую вилку… На общую кухню, как и в общую баню, каждый приносит все необходимое с собой.
На столе лежала какая-то книга, которую хозяйка комнаты, очевидно, теперь прорабатывает.
„Зигфрид Шнабль, „Мужчина и женщина“, — прочитала Настя. — Ого, да наша вечная девушка втихаря интересуется сексологией!“
Закладка была заложена там, где начиналась глава „Аноргазмия и любовь“.
— Что, Шнабля читаешь? — Марина забежала на минутку.
— Оказывается, мне интересно и такое чтиво.
— Может быть, ты замуж собралась? — весело спросила Марина.
— Не знаю. — Настя искренне была не в состоянии ответить на этот вопрос.
Марина посмотрела на нее долгим внимательным взглядом и перевела разговор на другую тему.
— Ну, ладно. Пойду сторожить „жарево“. А то, знаешь, сопрут.
— Знаю, — ответила Настена, — у меня вчера со сковородки несколько кусков рыбы утащили.
Когда после сытного ужина она поднялась к себе на седьмой этаж, перед ней предстало увлекательное зрелище. Два алтайских поэта играли в лошадку. Один вел другого вдоль по коридору, предварительно накинув на приятеля импровизированную сбрую из двух махеровых клетчатых шарфиков, связанных толстым узлом. На Настю они не обратили никакого внимания.
— Еще раз пройдем — и будем квиты, — говорил один.
— Нет, уже хватит. Я столько тебе не проиграл, — отвечал другой.
Ростислав пребывал в мрачном расположении духа — она поняла это с первого взгляда. Он сидел за столом, созерцая чистый лист, а на полу было белым-бело, словно прошел снегопад. На измятых листах бумаги выделялись черные, как вороньи следы, закорючки.
Настя ни о чем не спросила бедного поэта. Она молча застлала постель и легла. Гера свернулась клубочком рядом. Настя спала, и свет настольной лампы не мешал ей…
Среди ночи ее разбудили странные звуки и голоса. Наверное, в соседней комнате разрушался мир… Он распадался на гортанные слова со множеством согласных, казалось, непроизносимых, а потому ошеломляющих. Там, далеко, в иных мирах и пространствах, что-то читали нараспев, может быть, причащались священной книгой, а может, отпевали покойника. Настя слышала голоса, не понимая ни единого слова. Но звуки казались огненными, булатными, упруго стальными, как ветры в ущельях гор. Голоса утихли, и до нее донеслась музыка — старинный мусульманский напев, которому разгуляться бы где-то над Босфором или Ферганской долиной. Он звучал в восемнадцатиметровой московской „келье“ с почти разрушительной силой.