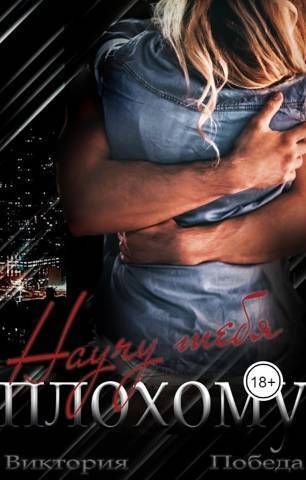Сумасшедшая моя девочка, тебе же больно будет.
Я не могу больше говорить и не хочу. Просто отрицательно мотаю головой.
— Мышка…
Простонав протяжно, он набрасывается на мои губы, и нет, не целует, а просто вгрызается, словно наказывает за то, что посмела ему перечить. А мне плевать, потому что хорошо, от его такой несдержанности и похоти хорошо. Я только и могу, что беспрепятственно подставлять искусанные, должно быть, распухшие губы под его совсем нещадящие, жалящее поцелую. В следующую секунду Марк вновь издает стон, а меня простреливает острая боль, пронзающая тело.
— Мышка, что же ты такое творишь.
Он утыкается носом в мою шею, впивается в нее зубами, оставляя на ней очередную порцию меток. Не двигается, себя сдерживает и меня бесит. Я чисто из вредности и, быть может, немного от злости, впиваюсь ногтями в его плечи, и сама двигаю тазом.
— Еся, блядь… — рычит угрожающе, а я улыбаюсь, как дура последняя, потому что он не удержался, поддался мне, моему напору.
— Просто продолжай.
— Еська, ты совершенно точно такая же чокнутая, как я.
Я слышу, как он тихо посмеивается, а потом, спустя долю секунды, начинает медленно двигаться.
— Блядь, девочка, ты даже не представляешь, какой это кайф быть в тебе.
— Марк, — шепчу, прижимаюсь к нему, хочу его чувствовать. Его всего. Каждую часть его тела. Он двигается медленно, размеренно, а я чувствую, как постепенно отступает боль, сменяясь чем-то необъяснимым, но таким знакомым. — Марк.
— Моя мышка, моя, блядь, какая же ты…
Он не договаривает, только дергается резко, перекатывается на спину и вот я уже лежу на его груди, плотно прижатая к горячему торсу. Помедлив немного, позволяя мне привыкнуть к изменениям, Марк снова продолжает двигаться, все также медленно, боясь причинить боль, сдерживается. А я не хочу, чтобы он сдерживался, не хочу, чтобы думал, потому что уже не так уж и больно, и вообще…
Сама его целую, обнимаю, глажу везде, где только достаю и кричу от неожиданности, когда, сорвавшись и окончательно потеряв контроль, он ускоряется, не жалея, выбивая из меня тихие стоны.
— Прости, малышка, прости, — шепчет словно в бреду, наращивая темп, больше не сдерживаясь и яростно вколачиваясь в мое безвольное тело. А мне хорошо, необъяснимо хорошо. И каждое движение отдается болезненно сладким разрядом, разваливающимся по телу. Это так жестко, грубо, порочно, а мне нравится, безумно нравится эта несдержанность, необузданность, потому что я ее пробудила, я стала причиной. С каждым новым толчком я все сильнее прижимаюсь к своему ежику, желая больше, сильнее, быстрее. Так не должно быть, так не бывает, но я совершенно точно его прибью если остановится, если даже замедлится, — придушу просто.
И он, словно чувствуя, будто улавливая мое настроение, мое порочное желание, только ускоряется, окончательно прекращая меня жалеть и полностью отдаваясь нашему общему безумию. Этой бешеной, огненной страсти, этой сладкой боли, полыхающей в жилах. И каждый толчок, словно маленькая смерть, рвет на части, прошибает немыслимым просто разрядом электрического тока. Он зарывается пятерней в мои растрепанные волосы, притягивает к себе, целует, проталкивая язык мне в рот, так глубоко и грубо, вторя движениям внизу, а я, больше ничего не соображая, просто сжимаю ладони на широких плечах и позволяю ему все, абсолютно все, лишь бы не останавливался.
Целую его, кусаю, беспрерывно шепчу просьбы не останавливаться, не замедляться, потому что умру, и его убью. Его движения становятся сильнее, размашистей, я меня трясет, на месте от прошибающего тело удовольствия. Я не пытаюсь больше сдерживать крик, теряясь в собственных ощущения, содрогаюсь в крепких объятиях, умирая, чувствую, как Марк покидает мое тело и с оглушающим рыком разделяет со мной непередаваемое удовольствие.
А потом меня куда-то несут, шепча на ухо приятные нежности, рассказывая, какая я охрененная, самая лучшая и только его. И что не отпустит меня никто и никуда, что попала я окончательно и бесповоротно, а я только киваю согласно, потому что совершенно не в том состоянии, чтобы спорить.
Меня опускают на прохладную поверхность, и только когда сверху начинает литься вода, я понимаю, что мы в душе. Опять. Это уже традиция, честное слово. Я ничего не делаю, просто позволяю себя мыть, наслаждаясь прикосновениями больших теплых ладоней. Марк, словно умелый кукловод, управляет мною, как самой настоящей марионеткой, а я только и делаю, что глупо улыбаюсь, подставляя шею и плечи под его непрекращающиеся, жалящие поцелуи. И когда он заканчивает с водными процедурами, я едва стою на ногах, бесконечно уставшая и столь же довольная.
— Теперь можно и поесть, — слышу рядом с ухом, как только в душе перестает шуметь вода.
Марк
— Не смотри на меня так, иначе мы сегодня не поедим, — мне нравится наблюдать, как розовеют её щеки, как мышка моя, пряча улыбку, опускает взгляд, делая вид, что тщательно прожевывает пищу.
— Я вообще на тебя не смотрела, — отвечает дожевав, и снова улыбается.
А я смотрю на неё и понимаю, что мне дико кайфово вот так с ней за столом сидеть, уплетать приготовленный ею завтрак, наблюдать за тем, как думая, что я не вижу, она рассматривает меня искоса, осторожно так, ненавязчиво.
— Иди ко мне, — понижаю голос, протягиваю руку к рядом сидящей мышке.
Мне мало её простого присутствия, я хочу её чувствовать, трогать, сжимать хрупкое тельце в своих объятиях, вдыхать её запах. Я себя маньяком одержимым чувствую, наконец добравшимся до своей жертвы. И жертва эта, судя по сегодняшнему её подарку, совсем не против.
Умом я понимал, конечно, что больно ей сделаю, и потерпеть бы надо, не спешить, но как, скажите, было удержаться, когда малышка ко мне сама потянулась, когда она сама просила и отдавалась, словно в последний раз. А я все больше заводился от близости её, от такой сладкой, разливающейся по телу неги, от доносящихся до слуха приглушённых стонов.
— Иди ко мне, малыш, — повторяю, чуть отодвигая стул.
Малышка не решается, головой мотает, взгляд отводит.
— Есь.
— Неудобно будет, — выдаёт тихо, снова пряча улыбку.
— Все удобно, — беру её за руку, вынуждаю подняться со стула и перебраться ко мне на колени. Надо сказать, мышка не слишком сопротивляется, а я дурею, во второй раз за утро понимая, что вновь ее хочу.
Она же как наркотик — чтобы подсесть, достаточно всего один раз попробовать.
Утягиваю мышку на себя, не позволяю даже подумать, поворачиваю её лицо к своему и целую. Мне по-хорошему на работу надо, и на учёбу я чутка забил, а я от девочки своей оторваться не могу и не хочу от неё отрываться. Я же не отпущу её больше, не смогу, наверное, это проклятье какое-то семейное, когда вот так, практически с первого взгляда. Тому, кто ни с чем подобным не сталкивался, наверное, не понять, насколько сильной может быть потребность в одном единственном человеке.
— Марк, ну завтрак же, — она разрывает поцелуй, отчитывает меня тихо, а я в глаза ей заглядываю и улыбаюсь, как умалишенный, потому что несмотря на внешнее сопротивление, мышка точно также от меня дуреет, и на глубине глаз её ореховых черти пляшут.
— Завтрак? — улыбаюсь ей, губами касаюсь подбородка, прихватываю слегка кожу.
— Да.
— Ну тогда корми, — командую.
— Кормить? — удивляется так искренне.
— Ну да, с рук, с твоих рук, Мышка, я даже яд съем.
— Дурак, — улыбается, посмеивается смущённо, но все равно делает то, о чем я прошу.
Я даже не помню, когда в последний раз испытывал такой кайф от простого вкуса жаренного теста во рту. Готовить мышка и в самом деле умеет. Не к месту вспоминаю нашу с ней первую встречу, вспоминаю, как выставил её за дверь, а вечером того же дня вырывал её из лап неудавшихся насильников.
— Больно, Марк, — взвизгивает мышка, а я только теперь осознаю, что слишком сильно сжал ладони на тонкой талии.
Я ведь мог её потерять, эту невероятную, девочку, и одному Богу известно, чем бы все это закончилось, не затрахай мне мозг Виталя.
— Прости, прости, маленькая, я задумался, — улыбаюсь ей, беру очередной кусочек пирожка из её рук, губами прихватываю тонкие пальчики.
Мышка смущённо прикусывает нижнюю губу, с меня глаз не сводит, а я перехватываю её руку, целую каждый маленький пальчик, ладошку, поднимаюсь выше — к внутренней стороне запястья.
— Марк…
— Прости, котёнок, но ты такая сладкая, я оторваться не могу, всю бы вылизал.
— Вот зачем ты это сказал? — она так мило смущается, а мне нравится видеть её покрасневшие щеки, приоткрытый ротик, в который хочется впиваться до бесконечности, чувствовать