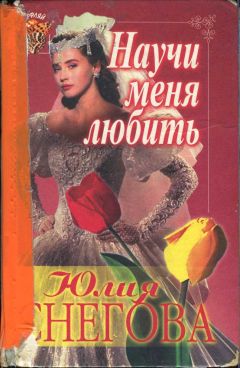Мне вот муж такого счастья не предоставил. Я за него вышла, мне со свекрухой жить пришлось. Люто она меня невзлюбила. Да я не сдавалась. Мужа своего обожала до одури, думала, все преодолеем вместе. А мать его, кажется, со свету меня сжить решила: и издевалась, и била. Только муж на все прикрывал глаза. Он, тогда передовик, старше меня на десяток, уважаемый человек. А я что? Вертихвостка мамкина, любимица папкина. Их когда не стало, братья-сестры дом быстро продали, поделили наследство на крохи. Да и те у меня свекровь отобрала. Свиней накупила, потом же сама их и погубила, скормила им горячей картошки. Вроде уж тут я решилась голос свой подать, да отступилась. Поняла, что понесла первенцем. Думаю, куда мне теперь, брюхатой. Ох, и до чего ходила я тяжело.
Как вспомню, до сих пор дурно. Приду с работы, а свекруха встанет у плиты и нажаривает лук, пока мне плохо не станет. Я выскочу во двор, а она жарево — в помойное ведро. Наревусь, дождусь мужа на улице. Хорошо, если трезвый придет. Погулять он крепко всегда любил.
А однажды не утерпела, жаловаться начала. Дура молодая, не понимала, в чем смысл мужниной роли. Начала ему предьявлять, пьяному. Толкнул, расшиблась, скинула. Еще полгода проболела. Ушла, конечно, потом, не смогла так больше. На прощание скандал знатный вышел, с ревностью, с побоями. А я все равно ушла. Такой он, Васька мой, молчит-молчит, а потом все как ушатом на голову выльет.
Я в приживалки к тетке прибилась, пока с горя мой Васька еще полгода пил беспробудно. Потом свекровь как-то враз сникла и в зиму тоже слегла. Меня знаешь как в деревне судили! Как-будто я свинья неблагодарная! Не выдержала, вернулась. Ходила за ней до последнего, а она словно из ума выжила. Я каждый день подле нее, а она не узнает. Померла к весне, слава богу. И Васька пить перестал. Зажили, скрепя сердце. Любовь-то вроде как ушла уже. Потом снова я понесла, уже с Сашкой. И муж вроде как изменился, обхаживать стал, заботиться. Молча, конечно, сопком все. Но и тому рада была. И дочку потом следом родили. И жить мирно стали, не хуже других. Мой целый день на работе, я — на хозяйстве, да с детьми. Знаешь, безысходность, она разная бывает… Я к чему это все? Лешку ты можешь оставить. Оставь, если горечь душит. Мне не страшно, я справлюсь, у меня гордыню по молодости еще выбили, граблями да метлами по спине. И мне, дочка, все равно от какой бабы мой внук. Хоть от тебя, хоть от проходимки той. Он Сашкин, сына моего, кровиночка наша!
Любовь не меряют по-другому, только так, когда в беде, когда можешь через гордыню переступить. Я рада, что ты приехала. А в ваши с Сашкой дела не полезу, не советчик я вам. Внука оставь, мы присмотрим. Он нам только в радость."
Свекровь, словно выдохшись, привстала. Теперь небрежно погладила ещё раз Янку по плечу, словно в поддержку и, снова тяжело вздохнув, ушла в сторону дома.
57
Сашка втянул тяжелый, пропитанный газом и отработкой воздух. Ветерок бы, чтобы развеяло этот смог. Но уже который день стояла жара, оттого и душно даже вечером.
И на работе сегодня ни капли не легче, хоть и завалы все разобраны, и опасность повторного взрыва миновала. Сашку напрягало все, злило. Его так и не вернули в статусе, оставив простым рабочим. Понимал, что незаконно, что это самоуправство этого козла — Пьянова, но что он мог сделать? Уехать отсюда, нарушив режим? Это дать ему еще один повод для увольнения.
И так тот кружил, как коршун над объектом. Все что-то выслеживал, вынюхивал, записывал. Установил камеры, опять же незаконно. Никаких разговоров, перекуров, болтаний по телефону. От звонка до звонка, как на зоне. Суёт везде свой нос, ходит с гадкой ухмылочкой, нагнетая обстановку. И не скажешь ничего. Да и говорить, собственно, не хочется, сразу бы в харю ему дать, чтобы…
Сзади скрипнула железная дверь, Колька вышел, тоже подышать. Мужики все на взводе. Находиться вчетвером в тесном вагончике просто невыносимо. Вот и бегают по очереди курить через каждые пятнадцать минут. Хотя бы здесь, после работы, на вахтовой стоянке.
— Завтра приговор будем ждать, сказали уже заключение пишут. Не знаешь, что там придумали они?
— Не знаю, Колян. Предчувствие плохое. Я когда заходил писать объяснительную, то понял, что нас никто слушать даже не станет. Все решает Пьянов.
— Васюков наш последний заходил, говорит, полная корзина бумаги. И листы как-будто с нашими показаниями…
— Вот-вот. Все это так странно. Кроме того, если он обернет все против нас, то снимут, скорее всего, бригаду полностью…
— Да, а еще он вправе добиться, чтобы тебя, как главного виновника, взяли под арест. И пока мы будем добиваться оправдания, могут пройти месяцы, Сань. Ты хоть жене сообщил, что проблемы на работе?
— Нет, конечно. О чем ты. Там и без этого все сложно. Сын остался с Яной, ей он как кость в горле. Она привыкла, чтобы все для нее, а теперь… Теперь ей кажется, что все это не должно происходить. Ни с нами, ни с ней. Только кто виноват? Я конечно, не спорю. Только как разорваться. Мне и сын дорог, и жену я люблю. И кажется брак наш висит на волоске. Деньги отдал на лечение Лешкиной матери, чтобы у сына родная мать живая была. Не с мачехой чтоб рос. Только деньги эти на море были отложены и я не должен был вроде как… Не знаю, Колян. Запутался я. Неожиданно все, скомкано. И с работой как назло все тут завертелось. Я-то ладно, но если уволят всю бригаду. Как мне потом ребятам в глаза смотреть…
— Саш, но ты ведь не виноват. Это Пьянов все!
— Ну это сейчас мы с тобой понимаем, а потом остальные о чем будут говорить? О том, что все пострадали из-за нашей войны с козлиной этим. И виноват все равно буду я.
— Может, все обойдётся?
— Может. Дай закурить, зажигалку не взял.
Николай молча вытащил зажигалку, отдал командиру, и, пока тот курит, решил переговорить с мужиками. Может еще что-то можно придумать.
****
Яна не спала всю ночь. Не могла успокоиться после разговора со свекровью.
Да, ее душит и обида, и горечь, и даже гордыня. Но это ее чувства, она имеет на них право. Яне, думая обо всем этом, хотелось этим же утром повернуться и уехать домой. Без объяснений. Но она так не сможет.
Вчерашний день показал, что мальчик здесь будет только обузой. Да, все понятно, что тут бабушка, дедушка, любовь. Только толку, если на него у свекрови совершенно не будет времени. Лешка за вчерашний день умудрился уже порвать штаны на заборе, сломать черенок у лопаты, пока искал червей для рыбалки, разодрав до крови всю ладонь. Чего доброго сам уйдет рыбачить на реку или озеро. С него станется. А Сашке потом как в глаза смотреть?
И люди тоже скажут, как и Нине Григорьевне когда-то, что она — сноха неблагодарная. Или хуже того, что струсила…
Все же это ребенок, и нужно, наверное, как-то переступить, спрятать свою боль. Поглубже, чтобы хотя бы можно было дышать. Вытерпеть эти два месяца, или три. Сколько там не будет Веры? Люди ко всему привыкают, у нее не худший случай. А что потом? Потом она воспользуется предложением матери и просто переедет в другой город. Жить, работать, спасать себя. Возможно, сможет понять, где она ошиблась. Возможно, найдутся силы простить Сашку. Но пока очень больно. И обидно от безысходности. Как там говорит свекровь? Своя доля всегда кажется горше.
58
— Ешь, Алексей, — Яна шваркнула тарелку с манной кашей перед носом насупившегося Лешки. Тот демонстративно отвернулся.
— Я не буду.
— Это что еще за новости? Ешь, говорю.
— Я манку не ем, она противная.
— Зато питательная, ешь.
Раздражение нахлынуло новой волной, когда Лешка настырно отодвинул тарелку. Что за ребёнок! Ресторан ему тут, что ли?
Яна отвернулась, и, понимая, что с этим упрямцем ей не сладить, выскочила на улицу.
На крыльце столкнулась со свекровью.
— Доброе утро, Нина Григорьевна!
— Доброе, Яночка, доброе! Ты чего вскипятилась? Ребетенок чего учудил?