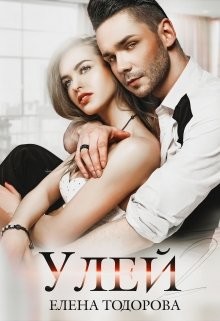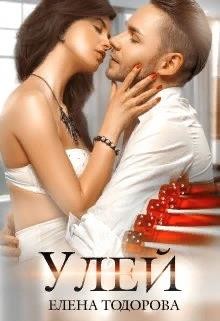— Нет… Адам, не отпускай…
Ей так страшно только от одной мысли, что он ее отпустит.
— Чёрт, Ева… Ты такая горячая там, — выдыхает Адам, прижимаясь влажным лбом к ее лицу. Произносит, как обвинение: — Совершенная.
— Двигайся, Адам, прошу тебя…
Двигается. Резкими точками. До упора, и назад.
Ей все еще больно, но близость, которая сохраняется между ними, пока Титов находится внутри нее, — вот, что чувствуется разрушительней. Она убивает. Она покоряет. Она вызывает зависимость…»
— Нам не стоит торопиться. Один раз мы уже поспешили. Черт… на самом деле, мы ни разу не сделали этого правильно.
— Поспешили? Ты жалеешь?
— И да, и нет. То есть… Я не знаю.
Слышать такой ответ от Адама более чем странно. И он Еве абсолютно не нравится.
Воспоминаний в ее голове с каждым днем все больше. Они появляются один за другим практически безостановочно. Сложно оставаться полноценным участником реальной жизни, пока внутри нее путаются события, лица, слова и эмоции, что приходят вместе с ними. Ева по-прежнему хранит втайне тот факт, что ее память возвращается. Но она же помнит… Чувствует…
«Почему?»
Этот вопрос стучит молотом в ее воспаленном сознании. Это же секс. Все парни хотят секса. Рано или поздно.
«Почему?»
— Почему тебе жаль?
— Потому что я, бл*дь, тебя обидел.
— А может, я тебя? — с вызовом и болью в голосе спрашивает она.
И задыхается, цепенея при запуске внутреннего аварийного режима.
В прохладном воздухе церкви расщепляется на тошнотворные молекулы насыщенный запах ладана. Прихожане длинной чередой выстраиваются перед батюшкой, чтобы получить его священное благословение.
— Руки из карманов, — шипит сквозь зубы мать, и Ева машинально подчиняется.
Расправляя потными ладонями синий сарафан, выгибается в сторону, чтобы поглазеть на юношу в одеянии церковного послушника.
Он кажется ей необычайно красивым. И больше всего Еве нравятся его светлые вьющиеся волосы и выразительные серо-зеленые глаза.
«Очуметь просто!»
Она радуется тому, что в течение невыносимо длинной и скучной службы у нее есть возможность смотреть на этого юношу.
Поймав ее любопытный взгляд, мальчик смущённо опускает веки, бормоча вслед за отцом слова молитвы, и тут же стремительно поднимает глаза вверх, чтобы снова встретить наглую улыбку Евы.
«Красавчик!»
— Стань ровно. Не вертись.
Засопев, Ева упирается глазами в пол, пока очередь движется с черепашьей скоростью. Как же раздражает, когда мать одёргивает ее, словно глупого ребенка.
От неестественного нервного напряжения по телу девочки проходит дрожь.
— Только не здесь, — разъярённым шепотом предупреждает мать.
И девочке приходится приложить максимальные из возможных усилий, чтобы остановить то, что само по себе является протестом против контроля.
— Мне просто холодно, — врет, вцепляясь вспотевшими ладонями в подол сарафана.
Но мама не сводит глаз вплоть до того момента, как они, наконец, оказываются перед лицом грузного батюшки в голубой мантии с белой бахромой. Он напоминает Еве абажур старой люстры.
И она его недолюбливает.
Но сейчас ей не до батюшки. У нее появляется оправданная возможность пройтись взглядом по светлому одеянию стоящего по правую руку от священнослужителя мальчика. Останавливаясь на остром подбородке и чётко очерченных губах, она вдруг прыскает смехом. Непомерно взбудораженная и впечатленная, не может удержать в себе эмоции, хотя чувствует на себе осуждающий взгляд матери. Смотрит юноше прямо в глаза, пока тот краснеет и кашляет.
Выгодный обзор перекрывает отец. Он не склоняет головы и не целует крест. Сложив губы в одну из своих неприятных улыбок, он вальяжно проходит прямо к батюшке и, расцеловавшись с ним в обе щеки, сует тому несколько пятидесятидолларовых купюр со словами "Во славу творца". Красномордый священнослужитель довольно сверкает глазенками и, пробасив нараспев "Спаси Господи», прикладывает ко лбу Исаева крест.
Ева фыркает, и этот вульгарный звук с громким эхом улетает под купол церкви.
Мать снова что-то недовольно шипит и дергает за плечо. Отец подхватывает. И даже батюшка, преисполненный своей непомерной благосклонностью к их уважаемой семье, тоже вставляет бесценные «пять копеек».
Некоторое время Ева с внутренним равнодушием частично внимает этому воспитательному процессу. Но вскоре, изображая недомогание, под прищуром недовольного отца выходит из храма.
Теплые дополуденные лучи июльского солнца ложатся на ее открытые плечи и руки. Запрокидывая голову, подставляет им и лицо. Щурясь, напевает и даже насвистывает, размахивая подолом сарафана и пиная носками туфель налетевший с тополей пух.
Озирается в слабой надежде встретить кого-нибудь из знакомых. Но двор опустел. На мраморных ступенях сидит лишь незнакомый ей мальчик.
Будто почувствовав ее взгляд, не расправляя плеч, он поднимает лицо. Злость и раздражение читаются в его темных глазах, будто Ева ему доставила неприятности. А она ведь только собиралась это сделать…
Чудовищная несправедливость, которую она теперь просто обязана исправить.
— Что ты здесь делаешь? — на всякий случай уставилась на него с таким же порицанием.
Пусть только попробует сказать ей что-то плохое — ох, она ему задаст!
Упираясь кулаками в тощие бока, девочка склоняет голову ниже. И волосы, сопротивляясь тонкому обручу, спадают ей на щеки. Они ее часто нервируют, но сейчас тот особый момент, когда она их не замечает.
— Тебе какое дело? — рычит сквозь зубы парнишка.
Его голос кажется Еве необычным. Слишком низким и сильным, как у взрослого.
Колеблясь между стремлением обидеть его и желанием услышать еще раз этот голос, открыто изучает мальчишку. Отмечая крупный красный рубец на брови, синеву на нижней губе, пару царапин вдоль левой щеки, опускает взгляд ниже — ссадины на костяшках сцепленных рук.
Последствия агрессии — то, что ей знакомо не понаслышке. Она знает их извилистую непредсказуемую изнанку.
И у нее вдруг что-то звенит в груди. Так незнакомо и так гулко.
Только Ева собирается убрать свисающие пряди волос, чтобы продемонстрировать мальчику шесть свежих швов за собственным правым ухом, как напряженные губы парня приходят в движение.
— Чего встала? Вали давай!
Застигнутая врасплох необоснованной агрессией, которая в разы превосходит ее собственную, Ева орудует словами, как палач топором.
— Где хочу, там и стою! Я, при желании, могу вышвырнуть тебя из этого двора. Проклясть тебя тысячей несчастий! Чтобы твое лицо грызли черви, а сердце клевали вороны! И чтобы ты, гадкий придурок, навсегда остался один… Чтобы никто-никто к тебе не подходил. И еще много-много чего!!! — выразительно завершает свою гневную тираду Ева.
Руки мальчика сжимаются в кулаки с такой силой, что сбитые костяшки белеют, пока на ссадинах не выступает свежая кровь. Его дыхание стремительно учащается, а взгляд становится тяжелым.
— Я сказал, проваливай! — выкрикивает он, нетерпеливо шоркая ногой по плитке.
Упираясь локтями в колени, напрягает плечи, словно собирается подняться, но, к удивлению Евы, все же остаётся на месте.
Тонкая струнка ее душевного равновесия натягивается, силясь порваться с оглушительными спецэффектами.
— Кто ты такой, чтобы указывать людям, что им делать?
Мальчишка игнорирует этот вопрос. Отворачиваясь, он сосредоточенно рассматривает зеленые кустарники, будто на них вдруг выросли кирпичи.
— Как тебя зовут? — едва контролируя голос, не унимается Ева.
Молчание.