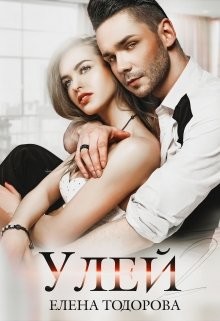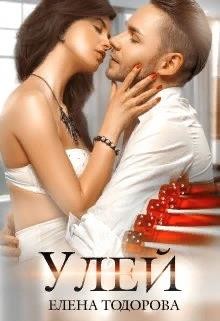— Посмотри на это тело. Как ты можешь его не помнить? — выплескивает недоумение Захарченко, с набитым ртом.
— Классный, правда. Зачет моему вкусу в прошлой жизни. Но хоть убей: впервые вижу.
— Ты хотела отдать ему свою девственность с пятнадцати лет!
— Фу! — присматривается. — Надеюсь, я не была той дурочкой, которая пишет кумиру письма и лайкает все его фотки, оставляя под ними глупые щенячьи морды.
— Хуже! Ты облизывала каждую новую фотографию в его инстаграме, — дурачится рыжеволосая.
— Фу! Три раза, — толкает Дашку в бок. — У меня аж дрожь по спине пошла, и в пот махом бросило, — обмахивает лицо пустым бумажным пакетом из-под круассанов. — Сама, небось, преследуешь его в социальных сетях… И в грязных снах видишь.
— Грешна, батюшка, — вздыхает томительно. — Я бы ему, не раздумывая, дала, — повторно вздыхает.
Ева потрясенно выпячивает глаза и начинает громко хохотать.
— Не могу поверить, что ты это сказала! Ты же одичалая пуританка и скромница.
— Скажешь тоже… К тому же Тристан очень достойный человек.
— Слишком… Чувствую, это его и погубит.
— Гляди, гляди, — закидывая горсть драже в рот, гундосит Захара малопонятным голосом. — Тебя когда-нибудь так целовали? Исаева? Тебя так целовали? — Ева молчит, не отрывает взгляда от экрана. — Как они дрожат! Как горят! У меня желудок бунтует просто от того, что я на это смотрю…
Ева мысленно перестает присутствовать. Думает о Титове.
«Исаева?»
Какая же она Исаева? Теперь нет. Никогда снова. Никогда.
— Целовали, — отвечает на вопрос Захарченко.
Какой там желудок… Почва под ногами бунтует, когда Адам ее целует. Сотрясается земля.
— Она не боится лишиться невинности? В те времена, в ее положении, до брака, с таким-то отцом… Как любить нужно, чтобы так… Насколько отчаянный поступок! Я бы не смогла. А ты? Ева?
— Не знаю.
— Смогла бы, — убежденно. — Ты бы точно смогла. Ты бы, сто процентов, это сделала.
— Я бы уплыла вместе с ним. Никакое чувство долга и ответственности меня бы не остановило. Ничего.
— И тебе не было бы страшно?
— Есть люди, за которых умереть не страшно.
Дашка перестает жевать, замирая. Смотрит на Еву, как на диковинку, удивляясь тому, какой она стала.
— Я — трусиха, — бормочет рыжеволосая, соединяя руки на подтянутых к подбородку коленках. — Блин, я бы даже не попыталась.
— Блин, — в торит Ева. — Ты просто еще не понимаешь, что они испытывают.
— Ну, наверное… — неохотно соглашается. Задерживает на подруге взгляд. Улыбается. — Ты всегда выбирала драматические фильмы и книги, самурайша.
— Что-что? Как ты меня назвала?
— Самурайша. Самурай. Иногда я тебя так называла. Еще в детстве.
— О-о-о, нет!
— Представляешь, сама забыла. Вдруг слетело с языка.
— Женщина-самурай именуется как-то по-другому.
— Какая разница? Не в том суть, чтобы выражаться правильно.
— Ну, как бы, сто процентов.
После «Тристана и Изольды», слегка притихшие и расстроенные из-за финала, девушки решают разбавить тоску веселой комедией.
— Эта высокомерная индюшка сильно напоминает мне тебя, — бормочет Захара, с треском откусывая кусок от яркого леденца на длинной палочке.
Ева смеется, вспоминая, что «индюшка» — замена, которую использует Дашка оскорбительному «сучка». Хотя в современном обществе последнее почти комплимент, а первое более оскорбительно.
— Улыбается гаденько… — подхватывает.
— Плюется ядом…
— Смотрит свысока…
— Речь поставленная, местами — артефакт…
— Предложения каверзные, вопросы провокационные…
— Не спи с ней, парень. «После» она откусит тебе голову, как самка богомола.
— Точно. Чтобы не «свистел» о произошедшем всем подряд.
Через пару минут.
— Да, он тоже гад. Хвастун. Спи с ним, милая. Наслаждайся.
— И голову не забудь откусить.
На мгновение замолкают, следя за происходящим на экране.
— О, нет, — стонет сквозь смех Захарченко.
— Она взялась не за ту голову. Что ж, тоже неплохо…
— Я всегда думала, что индюшки не делают «это».
— Минет?
— Ужас, Исаева! Не произноси этого вслух. Звучит мерзковато, — лепечет красная, как рак, Дашка.
— Грязненько, — выпаливает Ева, понижая тон.
— Гаденько.
— Закрой глаза, Пресвятая Дарья, — перекрывает подруге видимость ладонью.
— Нет уж! Уберись, Исаева! Я все равно хочу посмотреть.
— Дурочка! Кошмары будут сниться. Монстр выползет из-под кровати…
— О-о-о, — запинается рыжая, отлепив Евину руку.
— Похоже, он решил отплатить нашей стерве той же монетой, раз она пощадила его дружка.
— Ты хотела сказать, приласкала? Это уже не похоже на соперничество? Они обсасывают друг друга!
— Она точно не собирается откусывать ему… голову.
— Фу-фу, что это был за звук там? Он не сожрет ее? Мне что-то перехотелось леденец, — бормочет Дашка.
Ева смеется, пока подруга пилит ее внимательным взглядом.
— Вы с Титовым так делаете?
— Что? — смех резко обрывается. — Отстань! Смотри лучше фильм.
— Все-так делают, что ли? — едва ли не обиженно.
— Я не собираюсь обсуждать это с тобой.
— Не прикасайся ко мне, — то ли в шутку, то ли всерьез требует рыжеволосая.
Еве пришлось поймать Захару за руку, чтобы она не упала на спину.
— Стой, дурочка!
— Нет-нет!
— Да-да! Не двигайся! Я не знаю, делали ли мы что-то подобное. Но, — понизив голос. — Честно говоря, я не вижу в этом ничего сверхужасного.
Глаза подруги сужаются.
— С этих мыслей все и начинается. Угу, — авторитетно.
Отчаянно покраснев, Ева осознает то, что обычно случалось наоборот: она смущала Дашку.
— Да тебя накрыло с головой! — с благоговением выдыхает та. — Ничего не говори! Стоп, — смеется, а потом заявляет полушутя-полусерьезно: — После этого, с сегодняшнего дня, Титов официально — мой кумир.
— Умолкни уже, ненормальная, — шикает, но не может не хихикать на пару с Захарой, чувствуя необычайную легкость внутри себя. — Молчи! Терентий Дмитриевич дома. Не хватало, чтобы он услышал все эти глупости.
— Думаю, поздняк метаться, самурайша… Сдали мы тебя с потрохами, — уклоняясь, вопит: — Ева втрескалась в Адама!
— Замолчи!
— Ева обожает Адама! Ева обожает обожать Адама! Ева люби…
— Придушу тебя… Чес слово!
— Нет-нет… только не щекотка… это запрещенный прием…
— Сама виновата!
— Я раскаиваюсь…
— Поздно… — визжит, когда Дашка, вильнув в сторону, щекочет ее под ребрами.
— Исключительно в целях защиты.
— Я запомню!
Хохот девушек становится таким громким, что заглушает слова, которые и без того трудно разобрать из-за эмоций, с которыми они сказаны.
— Боже… — выдыхает рыжеволосая многим позже.
— Иди ты нафиг, Захара. У меня от тебя скулы болят. И живот. Вся деревянная от мышечного напряжения.
Дашка перемещается, устраиваясь напротив Евы.
— Есть такая метода. Ты ее любила… Расслабляющее дыхание. Вдыхай и считай, — набирает полную грудь воздуха и медленно выдыхает.
Ева повторяет два полноценных вдоха-выдоха, а на третьем прыскает смехом.
— Твои щеки! Захара, ты похожа на Кузю.
— Какого еще Кузю? — по инерции хихикает Дашка.
— Изумрудный мой! Яхонтовый, — искажая голос, скрежещет Исаева, как баба Яга, хватая подругу за плечи. — Крендельков покушал, отведай пирожков…
— А ну, изба, стой! — быстро включается Захара. — Ать-два! Зарывайся!
— Самоварчик у нас новенький, ложечки серебряные, прянички сахарные. Догоним, чай пить будем! — клацает зубами у лица подруги.
Дашка, не удержав серьезного выражения на лице, прыскает и хохочет, отодвигаясь и падая на спину.
— Не кукожься так, бабушка.
— Страшно?
— Нет. Переживаю, чтобы у тебя преждевременные морщины от этого не появились.
— Ой, все! Перестань. У меня реально живот болит. Будто я сейчас рожу бегемота… — заваливается рядом с Захарой на пол.