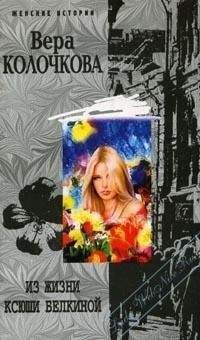звонок повторился – уже более долгий, настойчивый. Она вздохнула нервно и коротко, сплела пальцы в жесткий замок, даже головой мотнула как загнанная лошадь.
– Ты почему так испугалась? – спросил Саша. – На тебе лица нет… Хочешь, я сам пойду открою?
– Нет… Нет, не надо. Я сама… Опять они по мою душу пришли, по всей видимости…
– Кто пришел?
– Да я тебе потом объясню, ладно? – проговорила она решительно, вставая со стула. – Ты сиди пока, я быстро! Сиди…
В прихожей она глянула на свое лицо в зеркале – слишком растерянное какое-то. Надо бы наглости в него добавить. А лучше – зверства. Чтобы прекратить эти непрошеные визиты раз и навсегда. Чтобы дорогу сюда забыли, чтобы… Чтобы поняли все…
Распахнула дверь так резко, что стоявший на лестничной площадке Павел Георгиевич Морозов отпрянул, забормотал испуганно:
– Добрый день, Ирина… Простите… Вы так долго не открывали, я подумал, что никого дома нет…
– А для вас и в самом деле никого здесь нет, Павел Георгиевич. И я не понимаю, зачем вы с таким постоянством в эту дверь все время звоните. Я ведь вам сразу все сказала, еще в первую нашу встречу. Вика не будет с вами общаться, ей этого совсем не нужно! Неужели вам что-то еще не ясно, Павел Георгиевич? И жене так же объясните, пожалуйста!
– Да… Да, конечно… Простите, Ирина, что я вас беспокою… Простите…
Наверное, со стороны она сейчас выглядела очень жестокой. Стоит пожилой человек на пороге, просит у нее что-то, а она ему грубо отказывает. И даже не видит, как жалко-смиренно этот пожилой человек голову опустил, как несчастно отсвечивает его бледная лысина на макушке. А она вся такая воинственная, такая неприступная! Так и хочется стороннему наблюдателю в ее адрес сказать – да как не стыдно-то, господи! Зачем так сурово обращаться с пожилым человеком! К тому же он все бормочет и бормочет что-то свое:
– Простите, Ирина, простите… Я все понимаю, да, очень хорошо понимаю… Конечно, вы вправе так поступать, но… Моя жена очень больна, и я решил… Может, вы все-таки разрешите… Анна очень хочет внучку увидеть, говорит, вдруг в последний раз… Она очень больна, правда, поверьте, Ирина!
– Я сожалею, но ничем вам помочь не могу, Павел Георгиевич. Желаю вашей жене скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Все, извините, я не могу больше говорить, у меня гости!
Она хотела было закрыть дверь, но Павел Георгиевич снова заговорил жалостно:
– Постойте, Ирина! Постойте… Не закрывайте дверь! Позовите Вику, пожалуйста, хоть на минутку! Можно я с ней сам поговорю? Я объясню…
– Что вы ей объясните? Не надо ей ничего объяснять. Я все давно ей рассказала, она знает, как вы от нее когда-то отказались. Или вы на жалость давить собрались, про тяжелое самочувствие Анны Николаевны ей рассказывать?
– Но она и в самом деле очень больна, поверьте! Больна с тех пор, как увидела Вику… Все время твердит, что это Ромочка, места себе не находит… Простите нас, Ирина, простите! Простите, что так поздно мы спохватились. Пожалейте нас, Ирина! Позовите Вику, пожалуйста! Она ведь дома, наверное?
– Нет. Ее нет дома. И придет очень поздно. Я вас не обманываю сейчас, правда… Пожалуйста, перестаньте нас преследовать! Неужели вы еще не поняли, что не будет так, как вы хотите? И позвольте мне закрыть дверь…
Наверное, она говорила слишком громко, потому что услышала за спиной встревоженный Сашин голос:
– Может, помощь нужна? Что происходит, Ирина?
Он вырос у нее за спиной, глянул сурово на Павла Георгиевича, и тот проговорил виновато:
– Простите, Ирина… Я вам помешал, наверное… Хорошо, я уйду. Простите…
Повернулся спиной, шагнул к лифту. И спина у него была такая же несчастная, жалко согбенная. Ирина закрыла дверь, без сил припала спиной к стене и проговорила тихо:
– Да когда уже это кончится? Говоришь им, говоришь… А они будто не слышат… Измучили меня совсем…
– Давай шампанского выпьем, – решительно предложил Саша. – Пойдем, пойдем… Иначе ты плакать начнешь, как мне кажется.
– А что, нельзя? – спросила Ирина, следуя за ним на кухню.
– Да почему же… Плачь, если хочешь. Говорят, это даже полезно в стрессовых ситуациях. А у тебя она именно такая, как я понял.
– Да… Именно такая и есть… Достали уже, честное слово… Я изо всех сил хочу забыть, а они… Как будто эту старую боль заново заставляют меня переживать!
Сказала и заплакала все-таки. Саша подвинул к ней по столу бокал с шампанским, она дрожащей рукой взяла его, сделала несколько жадных глотков. Но легче не стало, наоборот, слезы полились с новой силой. И проговорила, сердито всхлипывая:
– Хорошо, что Вики дома не оказалось! Хоть в этом повезло… Ты прости, Саш, я сейчас успокоюсь… Сейчас, еще одну минуту…
Саша кивнул и даже рукой махнул слегка – плачь, мол, сколько угодно. И смотрел на нее очень серьезно. И она была благодарна ему за это молчание, эту серьезность. Было бы хуже, если бы он принялся жалеть ее суетливо, говорить что-то расхожее, что все говорят в таких случаях – не бери близко к сердцу, мол… А еще говорят – перемелется, мука будет. А еще – не стоит из-за всякой ерунды слезы лить…
Ничего такого он ей не сказал. Но когда она проплакалась-успокоилась, потребовал довольно решительно:
– А теперь давай рассказывай все, лучше с самого начала! Я тебя внимательно слушаю, ну?
Она было возмутилась немного от этого «ну», а потом как-то вдруг сникла, проговорила тихо:
– Долго придется рассказывать, Саш… Очень долго… Получается, всю мою жизнь надо тебе рассказать…
– Пусть долго. Мы ведь никуда не торопимся, верно? Девицы наши сегодня поздно вернутся… Так что рассказывай, я слушаю.
– Может, не надо? Зачем это тебе?
– Надо, если прошу… Представь, что ты сейчас на сеансе у психоаналитика, рассказывай все.
– Но ты же не психоаналитик, правда?
– Ну и что? Все равно эффект тот же самый. Когда человек вслух проговаривает свою боль, она из него выходит потихоньку, и тогда ее можно со стороны увидеть, даже поговорить с ней, если хочешь. О чужой боли всегда легче говорить, чем о своей.
– И что? Тогда эта боль уйдет, думаешь?
– Ну нет… Не так сразу. Ничего никогда не происходит по мановению волшебной палочки. Очень много над собой работать еще приходится.
– Мне работать? Пусть те работают, кто эту боль в меня когда-то вложил! Это же я с ней живу, а не они с ней всю жизнь жили! Да я… Я ж ни на минуту