Православный христианин по рождению, агностик по убеждению, Элайас тем не менее любил рождественскую атмосферу: нарядные витрины, семейные сборища, подарки, но особенно предчувствие чудес. В детстве его любимым святым был Андрей Критский – не потому, что он превосходил прочих святых благочестием и добродетелями, но потому, что он сам был ходячим чудом. Немой от рождения, святой Андрей в семь лет неожиданно заговорил и начал изрекать истины, казалось бы, непостижимые для ребенка его возраста. Маленький Элайас обожал эту историю и с особым удовольствием представлял, как поражены были взрослые, когда немой мальчик произнес первые слова. Радовал его также тот факт, что святой вошел в историю как пламенный проповедник и сочинитель церковных гимнов и канонов. Если тот, кто от рождения был обречен молчать, смог достичь всего этого, значит жизнь не такая уж безнадежная штука, какой иногда кажется.
Бросив в кастрюлю мускатный орех, Элайас выключил огонь. К плите подскочил его помощник и осторожно вылил соус в фарфоровый сосуд, где ему предстояло остывать до того момента, когда его подадут на стол вместе с пятьюдесятью пятью порциями говяжьего филе.
Прежде чем приступить к приготовлению следующего блюда – грушевого пирога с пряностями и кленовым сиропом, – Элайас поглядел на часы. Он никогда не использовал в кухне металлическую утварь. Это был еще один его секрет. Все должно быть из дерева. Металл лишен жизни: он слишком холодный и гладкий. А дерево шероховатое, неровное, зато живое.
До Рождества оставалось всего семь часов. А до прихода нового, 1978 года всего несколько дней. Элайас не связывал с наступающим годом больших ожиданий. Точнее, он ждал одного: что новый год не будет таким ужасным, как уходящий.
Пожалуй, этот год был самым тяжелым из всех пятидесяти лет его жизни. В начале года карьера Элайаса шла на подъем, у него была красивая жена и просторный дом в Ислингтоне. Семь месяцев спустя он, одинокий, лишенный будущего, оказался в крошечной квартирке. Кроме нескольких близких друзей, он ни с кем не общался – никак не мог оправиться от удара, который нанес ему развод, и сравнивал сам себя с заводным поездом, у которого сели батарейки именно в тот момент, когда он взбирается на холм. Такой поезд неминуемо сходит с рельсов, и ничего тут не поделаешь. Развод, во время которого оба супруга проявили самые неприглядные стороны своего характера, забрал всю его энергию. Обсуждая финансовые вопросы, Элайас разговаривал на повышенных тонах и с удивлением замечал, что не узнает самого себя. В конце концов он счел за благо отказаться от всего – от жены, от дома, от воспоминаний.
Он любил свою жену и в глубине души до сих пор не переставал любить ее. Именно Аннабел с ее изящной фигуркой, узкими плечами, бледной кожей, безупречным британским произношением и оригинальными идеями стала единственной причиной, побудившей его перебраться в эту страну. Аннабел была большей англичанкой, чем сама королева, и не желала перерезать пуповину, связывающую ее с родителями, живущими в Глостершире. К тому же она была основательницей первого в Англии юридического центра, отстаивающего права женщин. Профессия Элайаса позволяла ему работать в любой точке земного шара, поэтому казалось вполне естественным, что после короткого медового месяца, проведенного на Ибице, молодожены обоснуются в Лондоне.
Элайас не возражал против этого плана, однако пустить корни в Лондоне оказалось нелегко. В начале семидесятых этот город мало напоминал кулинарный рай. Первоклассные рестораны можно было пересчитать по пальцам; любое новаторство, не говоря о многонациональной кухне, воспринималось в штыки. Правда, индийская кухня пользовалась некоторой популярностью, но все блюда готовились совершенно не так, как привык Элайас. Что касается английской кухни, она казалась ему тяжелой и скучной. Однако посетители ресторанов были консервативны и подозрительно относились к новым блюдам, которые он им предлагал.
В результате их супружеская жизнь завершилась тем же, чем началась: сознанием того, что перемены назрели и совершать их нужно безотлагательно. После того как документы были подписаны, все имущество, доставшееся Элайасу после семи с половиной лет семейной жизни, исчерпывалось старой персидской кошкой по кличке Магнолия и фотоальбомами, в которые он больше не желал заглядывать. Еще ему осталась горечь, пропитавшая не только его воспоминания, но даже сны.
В середине лета ему позвонила мать и сообщила, что у отца случился второй инфаркт, оказавшийся смертельным. О первом инфаркте Элайас и знать не знал.
– Он каждый день вспоминал о тебе, – сказала мать. – Папа очень уважал тебя, считал, что ты поступил правильно, настояв на своем выборе. Но он был слишком горд, чтобы сказать об этом тебе лично.
Связь была скверная, в трубке что-то потрескивало и щелкало, и Элайас сомневался, что расслышал мать правильно.
– Я скоро приеду домой, мама! – прокричал он.
– Не спеши, дорогой, – ответила она. – Ты приедешь повидаться со мной и Клео, когда все мы немного оправимся. А сейчас мы вряд ли сможем помочь друг другу. Оставайся там, где ты сейчас, и делай то, что считаешь нужным. Твой папа хотел именно этого.
Слова матери только укрепили Элайаса в решении не покидать Лондон, которое он уже принял. Он собирался работать до самозабвения, окружить себя работой, словно коконом, сквозь который не проникнет прошлое. Быть может, настанет время, размышлял он, когда он выйдет из этого кокона, чудесным образом преобразившийся, точно гусеница, ставшая бабочкой. В 1977 году работа была единственным, что ему не изменило, единственным, что его поддерживало. Ресторан процветал, словно компенсируя своему владельцу запустение, царившее во всех прочих сферах его жизни, и Элайас уже собирался открыть второй в Ричмонде.
К этому времени Элайас уже привык к постоянной боли. Она зарождалась где-то в желудке и расползалась по всей грудной клетке, мешая ему смеяться, а иногда даже дышать. Друзья продолжали ему звонить и требовать, чтобы он прервал свое затворничество. Они оставляли сообщения на автоответчике, устраивали ему свидания вслепую. Но Элайасу не хотелось встречаться с незнакомыми женщинами – женщинами, которые слишком переоценивали или, напротив, недооценивали себя. Он предпочитал проводить время наедине с собой и находил все больше оправданий своему выбору. Одиночество, которого он так боялся всю свою жизнь, стало теперь осязаемым, он плавал в нем, точно в мутной воде, и оно проникало во все поры его кожи, наполняло кровеносные сосуды и насквозь пропитывало ткани его тела. Как ни странно, это ощущение вовсе не было ужасным.
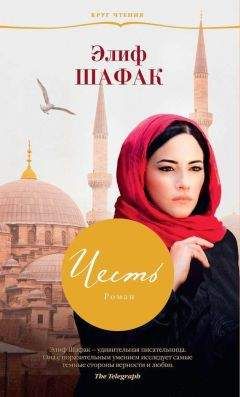



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)