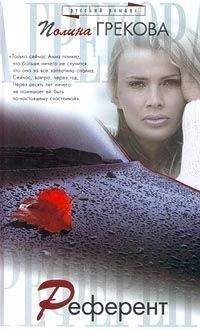– Надо же… – Я тоже закурила. – Наверное, та, первая, мать Алика, красавицей была?
– Наверное, – согласился он.
Алексею частенько рассказывали свои истории едва знакомые люди. Многие из этих историй он превращал потом в пьесы или рассказы. На кого-нибудь другого, наверное, за такие вещи обиделись бы. На него не обижались.
– Алеша, – я внимательно разглядывала пачку от сигарет, лежавшую на столе, – а почему ты меня не спрашиваешь, зачем я приехала? Ну, в смысле, почему так рано?
– А я уже понял, – улыбнулся он.
– Да? – У меня мигом взмокли ладони и рот растянула дурацкая ухмылка. – Вот как…
Хлопнула входная дверь, и на пороге в облаке пара появился мой попутчик, сосед Гена.
– Добрый вечер. – Он растерянно всмотрелся в мое лицо, узнал. – А я думал, к кому это такая симпатичная девушка едет на ночь глядя, одна… Приятно познакомиться, Геннадий! – Он протянул руку.
Я тоже назвалась и ответила на пожатие.
– Крепкая рука! – удивился Гена. – Алексей, вопрос, конечно, дурацкий, но нет ли у тебя чего от простуды? Стае приболел, из города выезжали, еще ничего было, а сейчас прям горит весь…
В моей сумочке нашелся аспирин, я насоветовала, как сделать лекарство из лука и меда, Алексей придумал, где мед добыть, и наложил в стакан малинового варенья из банки. Интересно, где он его взял? Наверняка подарок очередной сердобольной старушки соседки. К нему так и липли разные одинокие бабушки!
– Спасибо большое. Моя только послезавтра приедет, а я вот решил с мальчишками пораньше, у меня отгулы, а тут Стае… И Алька опять куда-то смылся. – Он поднял на Алексея скорбные глаза.
– Вернется, – заверил Алексей. – Поди, прячется где-нибудь, курит.
Гена поблагодарил и ушел.
– Чайник вскипел, – сказал Алексей. – Щас мы чаю с булочкой – и на печку с дурочкой… Ты куда?
– Подышу немножко, душно тут, – ответила я, накидывая шубу.
Во дворе было тихо-тихо. За калиткой висел фонарь. Через низкий забор было видно дачу Геннадия. Там горел свет. Какие-то кусты, засыпанные снегом, отливали под светом фонаря голубым серебром. Я вышла на улицу, прошла вдоль забора.
Алька стоял в закутке, образованном стыком нашего и соседского заборов, и действительно курил. Поднял на меня свои глазищи – даже в темноте было видно.
– Зажигалка есть? – спросила я, доставая из кармана сигареты.
Он молча щелкнул, взметнулся оранжевый лоскуток пламени, я закурила. Алька внимательно меня разглядывал.
– Хорошо здесь, – сказала я. Алька молчал.
– Новый год скоро… Слушай, а хочешь, я тебе одну историю расскажу? У моей подруги есть… м-м-м… человек, с которым она прожила полтора года. И вот недавно… – В общем, я рассказала ему про Алексея, и про того, другого, для которого была пламенной страстью и недостижимой мечтой.
Он молча слушал.
– И вот она хочет от него уйти – к тому, другому. Но не может. И сказать ему ничего не может – он ее как будто загипнотизировал! – пожаловалась я.
Мальчишка пожал плечами. Потом сказал:
– Пусть уходит, если не любит. Чего тут думать? Думать действительно нечего. Если не любишь – бросай. Если не любишь…
– Вот вы где, – сказал Геннадий, подходя к нам. – А я вас ищу.
Мне стало неловко, что я курила с его сыном. Гена снял перчатки, обхватил ладонями Алькину голову.
– Уши совсем холодные, ты бы шапку надевал… Стае окончательно разболелся, боюсь, как бы ангины не было. Пойдем его лечить.
Алька выбросил окурок и последовал за отцом, на прощание смерив меня взглядом, которого я не поняла.
– И мы пойдем, – сказал Алексей. Я не слышала, как он подошел. – Чайник остывает.
Мы пошли в дом. И пока пили чай с вареньем, Алексей говорил о том, как здесь будет хорошо летом (он уже договорился с хозяйкой аж до сентября), как будет пахнуть под солнцем сено, а хозяйская рыжая корова (ее зовут Роза) родит теленочка с глупой широкой мордой… Я совсем уж было собиралась сказать, что совместного лета больше не будет, я ухожу к другому, – но как-то вдруг стало лень это все говорить, да и незачем.
Я подошла к окну, где отражались комната, печь, поблескивали из угла прутья железной кровати, сияла лампа, под которой сидел мой любовник и тихо мешал ложечкой чай. А у самого стекла стояла я, зябко стиснув на груди руки.
Алексей щелкнул выключателем, и комната погасла. Он подошел, обнял меня сзади, ткнулся губами в макушку и легонько подул, от чего волосы стали горячими, а по спине побежали мурашки.
– Знаешь, почему ты приехала? – спросил он.
– Почему?
– Потому что соскучилась. И я тоже.
Мы смотрели на синюю ночь за окном, на голубой снег, на который откуда-то сбоку падал прямоугольник желтого света. Это в соседнем доме не спали наш сосед и двое его сыновей.
Имя у нее было незатейливое, внешность заурядная, судьба незавидная. Было Маше Щербининой всего двадцать годочков, когда осталась она одна на всем белом свете.
Первой померла бабушка Даля, совсем давно. Потом по-женски занемогла мать. Долго сопротивлялась болезни, и когда, казалось бы, уже спаслась – оборвалась какая-то ниточка, что-то не сложилось в звездном небе, не сжалилось оно над бедной бабой. И остались в живых из всех Щербининых два женских сердечка – прабабушка Маша и Маша-маленькая, старая да малая, сирая да убогая. А мужчин в их семье никогда и не было.
Бабушка Маша поклялась: «Пока тебя на ноги не поставлю – не помру!» Слово сдержала – уснула тихонечко, чтобы не проснуться уже больше, когда Маша училище закончила и нашла себе первую работу.
С детского сада Маша рисовала – много, с упоением. Но все как-то бестолково, учителя в художественной школе криком кричали: «Ну чего ты цвет в воздухе распускаешь? Ты чугунок рисуешь, а не фарфор китайский – он же плотный такой, увесистый…»
А Маша вела по сырой бумаге кисточкой-нулевкой золотую нить и замирала с приоткрытым ртом, глядя, как пульсирует, живет, плывет, бледнея, нежное золото, как сказочным соком напитывается бумага…
В училище поступила на то отделение, где меньше всего конкурс был, – на художественную вышивку.
«Да что ж это за профессия, что за должность такая! – убивалась бабушка. – Вышивальщица! Ни денег, ни почету – кто ж за это деньги будет платить?» Когда бабушку хоронили, под голову ей Маша положила думку, что на последнем курсе вышивала – с вербными ветками и серенькими воробышками. Бабушке она больше всего нравилась.
Оставшись одна, Маша поплакала несколько дней, а потом пошла и уволилась из ателье, где перебивалась вышивкой глупых жирных цветов на платьях жирных заказчиц. Заказчицам не нужна была верба, и воробьи не нужны, и трепетные белые маки, и тончайший узор – а только что-нибудь поаляпистей, с блестками и бусинами. Блестки и бусины Маша ненавидела.