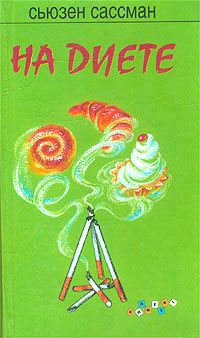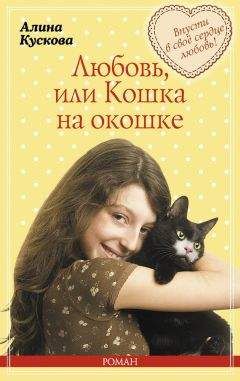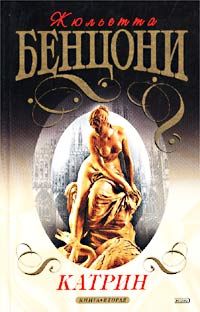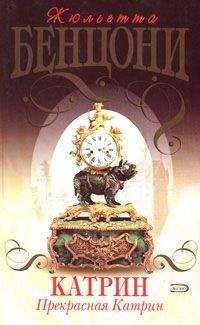— Ирис, ты несправедлива.
Сестра выпрямилась. Прядь черных волос выбилась из безупречного каре, упала ей на глаза. Она закричала, наставив обвиняющий перст на Жозефину:
— Мы заключили договор! Я отдаю тебе все деньги, а вся слава остается мне! Я соблюдала условия! А ты — нет! Тебе нужно было и то, и другое: и деньги, и слава!
— Ты прекрасно знаешь, что это неправда. Ничего я не хотела, Ирис, вообще ничего! Ни книгу писать, ни деньги за нее получать! Мне хотелось только дать приличное воспитание Гортензии и Зоэ.
— Посмей мне еще сказать, что не ты подослала эту мелкую стерву Гортензию, чтобы она опозорила меня прямо на телевидении! «Это не моя тетя написала книгу, а моя мама…» Посмей только! Тебе очень даже кстати пришлось, что она все разболтала! Состроила из себя святую невинность и захапала себе все, даже меня поимела! И если я сейчас тихо подыхаю на этой гребаной кровати, в этом виновата ты, Жозефина, только ты!
— Ирис… Прошу тебя…
— И тебе все мало? Издеваешься надо мной? Что тебе еще нужно? Мой муж? Мой сын? Да бери их, Жозефина, бери!
— Что ты такое говоришь?! Ты так не думаешь. Это невозможно. Мы же так любили друг друга, по крайней мере я тебя любила и люблю до сих пор.
— Ты мне противна, Жози. Я была твоей самой верной союзницей. Я всегда была рядом, вечно платила за тебя, вечно приглядывала за тобой. Раз в жизни я попросила тебя что-то для меня сделать, и ты меня предала. Решила взять свое! Опозорила меня! Почему, как ты думаешь, я валяюсь в этой клинике и сплю целыми днями, одурев от снотворных? Потому что у меня нет выбора! Если я отсюда выйду, все станут показывать на меня пальцем. Лучше уж подохнуть здесь. Я умру, и моя смерть будет на твоей совести, посмотрим тогда, как ты сможешь жить дальше. Потому что я тебя так не оставлю! Буду являться по ночам и хватать тебя за ноги, за твои маленькие теплые ножки, прижатые к большим холодным ногам моего мужа, на которого ты втихаря заришься. Думаешь, я не знаю? Думаешь, не слышу, какие трели он пускает, когда говорит о тебе? Я еще не совсем одурела, чую, куда его тянет. Я не дам тебе спать, не дам поднести к губам бокал шампанского, который он тебе протянет, а когда его губы коснутся твоего плеча, я тебя укушу, Жозефина!
Рукава ее халата сбились, обнажив бледные, исхудалые руки, зубы были стиснуты, на скулах ходили желваки, а глаза горели лютой ненавистью, ненавистью ревнивой женщины к сопернице. От этой ревности, от этой дикой ненависти Жозефина похолодела. И прошептала, словно признаваясь сама себе:
— Да ведь ты меня ненавидишь, Ирис…
— Наконец-то дошло! Наконец-то мы не обязаны ломать комедию и изображать любящих сестер!
Она кричала, яростно тряся головой. Потом притихла и сказала, глядя горящими, безумными глазами прямо в глаза сестре и указывая на дверь:
— Убирайся!
— Но, Ирис…
— Я тебя больше видеть не хочу. И нечего сюда таскаться. Скатертью дорожка!
Она нажала на кнопку, вызывая медсестру, и откинулась на подушки, зажав руками уши, пресекая любые попытки Жозефины как-то продолжить разговор и помириться.
Это было три недели назад.
Она никому об этом не рассказала. Ни Луке, ни Зоэ, ни Гортензии, ни даже Ширли, которая всегда не слишком жаловала Ирис. Нечего другим судить ее сестру, она сама прекрасно знает ее достоинства и недостатки.
Она злится на меня, злится, что я заняла первое место, по праву принадлежавшее ей. Вовсе я не подучила Гортензию вынести эту историю на свет божий, вовсе я не нарушала договор. Но как сделать, чтобы Ирис приняла правду? Она совершенно убита и ничего не хочет слушать. Винит Жозефину в том, что та загубила ее жизнь. Всегда проще обвинять других, чем разбираться в собственных ошибках. Ведь это Ирис предложила ей написать книгу, чтобы выдать ее за свою, это Ирис соблазнила ее деньгами, это Ирис все обстряпала. А она лишь позволила собой манипулировать. Она всегда была слабее сестры. Но где, собственно, граница между слабостью и трусостью? Слабостью и двуличием? Разве она, Жозефина, не была счастлива, когда Гортензия заявила на телевидении, что на самом деле «Такую смиренную королеву» написала ее мать, а не тетя? Да, я была потрясена, но меня гораздо больше потряс сам поступок Гортензии, по-своему признавшейся мне в любви и уважении, чем восстановление меня в правах как писательницы. Да плевать мне на эту книгу. Плевать на эти деньги. Плевать на успех. Я хочу, чтобы все стало как раньше. Чтобы Ирис меня любила, чтобы мы вместе ездили в отпуск, чтобы она была самой красивой, самой блестящей, самой элегантной, и чтобы мы кричали хором: «Крюк хотел схрумкать Крика и Крока, а Крик и Крок схряпали Крюка!» — как в детстве. Хочу опять стать невзрачной, неприметной. В одежке преуспевающей дамы мне как-то неуютно.
И тут она заметила свое отражение в зеркале.
Сначала она себя не узнала.
Неужели эта женщина — Жозефина Кортес?
Эта элегантная дама в бежевом пальто с широкими коричневыми бархатными отворотами? Эта прелестная женщина с блестящими каштановыми волосами, красиво очерченным ртом, удивленными, сияющими глазами? Это она? Пухлая шапочка гармошкой завершала и подчеркивала новый облик Жозефины. Она бросила взгляд на незнакомку. Приятно познакомиться. Голубушка, как хороша! И как свободна! Мне так хочется быть на вас похожей, то есть хочется быть и в душе такой же прекрасной, сияющей, как это зыбкое отражение в зеркале. Странное чувство: смотрю на вас и словно раздваиваюсь. Хотя на самом деле мы с вами — одна и та же женщина.
Она так и не притронулась к своей кока-коле. Льдинки растаяли, края стакана запотели. Она не сразу решилась оставить на них следы пальцев. Ну почему я заказала колу? Я же терпеть ее не могу. Ненавижу пузырьки, они лезут в нос, как тысяча рыжих муравьев. Никогда не знаю, что заказать в кафе, вот и говорю, как все: кола или кофе. Кола, кофе. Кофе, кола.
Она подняла голову и посмотрела на стенные часы: половина восьмого! Лука не пришел. Она достала из сумки мобильник, набрала его номер, попала на автоответчик, который четко, почти по слогам произнес «Джамбелли», оставила сообщение. Значит, сегодня вечером они не увидятся.
Может, оно и к лучшему. Всякий раз, как она вспоминала ужасную сцену с сестрой, ее охватывало бессильное отчаяние. Ей ничего больше не хотелось. Разве что сесть на тротуар и смотреть, как мимо идут прохожие, незнакомцы и незнакомки. Неужели обязательно надо страдать, если любишь кого-то? Может, это цена любви, выкуп за нее? Она только и умела что любить. Но не умела сделать так, чтобы ее любили. Это совершенно разные вещи.
— Вы не пьете свою колу, милая дама? — спросил официант, поднимая поднос с соседнего столика. — Невкусно? Может быть, выдохлась? Хотите, я вам ее поменяю?