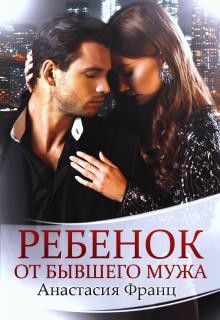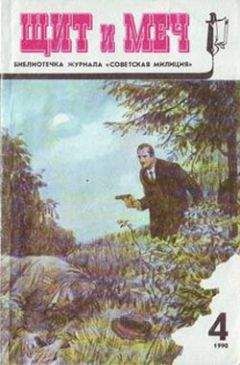На следующий день он пошел сдавать зачет. Лучший студент на курсе, на это раз он был рассеян и отвечал невпопад. Перед глазами застыл вчерашний стоп-кадр: луч солнца в волосах Насти, улыбка и взгляд снизу вверх.
— Вы себя плохо чувствуете, Гордей? — обеспокоено поинтересовался преподаватель.
— Наоборот, — горячо заверил его Гордей. — Очень хорошо.
— Тогда почему же вы не нашли времени, чтобы подготовиться? — нахмурился преподаватель.
— Извините, был занят, — улыбнулся Гордей. — Времени на зачет не нашел. Зато я нашел себе жену.
Гордей не умел молиться, потому что никогда этого не делал. Его отношения с богом были чисто юридическими и основанными на договоре: ты — мне, я — тебе. В сложных жизненных ситуациях Гордей обещал Самому вести себя хорошо в обмен на помощь и благоволение. Иногда в небесной канцелярии выдавали меньше, чем хотелось бы, и тогда Гордей, как истинный адвокат, предъявлял иск и подробно расписанные претензии. Но никогда не обращался непосредственно к Хозяину, ограничиваясь общением с Его канцелярией. Ответы сверху никогда не приходили напрямую, но обращения обычно принимались, и за ними следовали послабления и молчаливые подарки.
И сейчас в первый раз в жизни Гордей обратился к Нему:
— Господи, если ты меня слышишь… я тебя никогда ни о чем не просил, — мысленно взмолился он. — Не произносил имя твое. Так что опыта общения у меня нет. Но прошу тебя: давай заключим сделку. Ты вернешь Настю к жизни, а я изменюсь. Совсем. Полностью. На сто восемьдесят градусов. Я только сейчас понял, что не могу без нее, Господи! Совсем не могу! — он закрыл руками лицо и заплакал.
В первый раз за много лет. С самого детства. Гордей даже не помнил, с какого возраста. Ведь его всегда учили, что мужчины не плачут. Вранье! Мужчины плачут. Мужчинам нужно плакать, чтобы их слышал бог и родные женщины. Чтобы слышала Настя, которая сейчас гуляет там, на радуге, пока врачи пытаются выдернуть ее из тихих рощ и золотых полей, над которыми никогда не заходит яркое и теплое солнце. Гордей верил, что она сейчас его слышит. Потому что она всегда слышала мужа. Его Настенька, его девочка.
Она не просто любимая, она — родная. Это ведь совсем другой смысл. Любимые приходят и уходят, а родные остаются навсегда. В крови, венах, под кожей. Остаются светом, воздухом, водой. Для них нужно и можно пожертвовать всем, потому что иначе — никак. Иначе — космос, безвоздушное пространство, в котором ни звука, ни движения.
Глотая горькие слезы, Гордей обратился к ней, к своей жене:
— Я знаю: ты меня слышишь, Настюша! Я никогда тебе этого не говорил, потому что я дурак и мудак. А теперь скажу: бог уже послал мне счастье, а я не понял. Думал обо всем, кроме любви. Глупо, но не помню, когда последний раз говорил, что люблю тебя. И никто не подсказал, что нужно делать это все время. Это ведь так просто и банально. Я люблю тебя, Настенька. Я люблю тебя, девочка моя. Видишь? Твой сухой и холодный идиот это произнес. Ты не зря иногда называла меня сухариком. Правильно называла. Я ведь думал обо всем, кроме этого. И вот теперь все, что казалось важным, так далеко! Где-то там, за кирпичной стеной, которая перекрыла мне кислород. Зачем мне все это без тебя? Одиннадцать лет мы прожили вместе. А я и не заметил, как прошло время. Не ценил эти счастливые минуты. Не понимал, как здорово, когда просыпаешься утром, а ты мне говоришь: "Привет!" Столько боли я причинил тебе! Столько горя! Я сейчас слышу твои мысли. Ты думаешь о том, как устала от меня. Знаю, родная! Позволь мне все это исправить. Я превращу твою боль в свою молитву. Только не уходи! У меня ведь ничего не осталось, кроме любви к тебе. Ничего, девочка моя! Потому что без тебя я человек лишь наполовину. Без твоей любви меня нет. Но теперь я знаю главное: в этой жизни вообще ничего нет, кроме любви. Вернись ко мне, Настенька! Не оставляй меня, родная!
Анастасия
— Я с тобой! Потерпи немного, Настюша, — дрожащий голос Гордея доносится откуда-то издалека.
Пытаюсь ответить ему, но не могу. Машину слегка подбрасывает. Мы становимся в пробку. Люди Гурджиева тихо, но синхронно матерятся.
— Ну на кой сейчас пробка? В такое время, да? Вонючий случай! — один из ребят Гурджиева, сидя на пассажирском сидении, высовывается из окна и с кавказским акцентом орет на зазевавшегося водителя, яростно выплевывая слова. — Где ты лезешь? Где? Нет, брат, видал дельфина сочинского? — возмущенно обращается он к водителю.
— Я б тебе сказал, где. Но получится стих, — зло сплевывает за окно водитель. — Маму этого дельфина я топтал прямо в их дельфинаруме!
Голоса отдаляются от меня. Дальше — черный провал. А потом — яркий свет, невыносимо белый! Я уже умерла? Нет, мы в больнице. Слышу голоса медиков. С большим трудом мне удается приоткрыть глаза. Но почти ничего не разобрать. Вижу только их бегущие силуэты. Тех, кто пытается меня спасти — ангелов реанимации. Они матерятся и спешат. Они толкаются и выкрикивают что-то резким тоном. В них нет милой симпатичности киношных ангелов, но за их спинами — ворота в рай. Им умирать не страшно. Ангелы бессмертны. Если и есть за облаками царствие небесное, то оно принадлежит им, врачам реанимации.
— Осторожней с носилками! Ох, черт! Как вы довезли ее вообще?
— Мольча довезли. Мольча! Я по сочинскому серпантину зимой хрусталь на свадьбу уважаемого человека возил. Думаешь, я мягкую тёльку не довезу? — кипятится крепыш Гурджиева.
— Давайте во вторую операционную ее! Да куда тебя понесло? Кто вообще пустил сюда стажера? Слышь, огрызок мелкий, вынь пальчик из задницы! Здесь реанимация. Здесь ты или ангел или дерьмо! На ангела ты не похож. Так что чеши тошнить остатками мозга в другое отделение!
— Быстрей, ребята! Шевелите булками!
— Перекладывайте ее на стол!
— Пропустите хирурга!
— Сестра, закрепите мне маску. Где Илан Маск?
— Кто? Извините, не поняла. Я — новенькая. Еще никого по именам не знаю.
— Мать моя-женщина! Где ж вас, таких альтернативно одаренных, набирают? Илан Маск — это анестезиолог! Главный по полетам во сне и наяву. А вот он, вижу. Глебыч, ты готов?
— Я всегда готов! Как пионэр! Накладываю кислородную маску. Начинаю отсчет. Взлетаем. Всем мягкой посадки! Десять, девять, восемь…
И снова черный провал. Волны. Они качают меня, несут куда-то к берегу. И там, среди чудесных цветов меня ждут Гордей и Белка. Они тянут ко мне руки. Гордей складывает ладони рупором и кричит:
— Вернись ко мне, Настенька! Не оставляй меня, родная!
Сердце падает вниз. Он никогда мне такого не говорил. Родная! Как тепло и ярко это звучит. Как апельсин — маленькое солнышко в холодном и чужом мире! И на душе моей становится вдруг ярко и оранжево от этого апельсинового слова: родная. Еще немного — и я коснусь их теплых ладоней. Еще чуть-чуть… последний рывок. Волна выносит меня на берег, облизывает песок, как ласковая кошка, и мчится обратно в море. А я остаюсь на берегу.
— Мама, мамочка! — Белка бросается ко мне, и…
Я открываю глаза.
— Мамочка, ты вернулась! — счастливо визжит Белка, обхватывает меня двумя руками, распластывается на кровати и замирает, прижавшись ко мне всем телом.
— Солнце, осторожнее, ты что? Не дави на нее! — Гордей решительно, но бережно поднимает Белку, прижимает к себе и целует в лоб.
Потом Гордей опускается на колени, осторожно берет мою руку и прижимается к ней губами.
— Здравствуй, милая, — шепчет он. — Как ты?
— Сколько времени прошло? Что случилось? — пытаюсь приподняться, но меня сковывает дикая боль в левой половине тела.
Шея, плечо и рука горят огнем. Внимательно осматриваю себя. Бинты плотно охватывают всю верхнюю левую сторону от живота и вверх до шеи.
— Ты трое суток почти была без сознания. Очень много крови потеряла, — Гордей целует мою ладонь. — Пуля попала в плечо и шею, зацепила крупные сосуды и вену на шее. Но хирург сказал, что нам очень повезло: артерия не задета. Иначе… — он бледнеет и замолкает на полуслове.