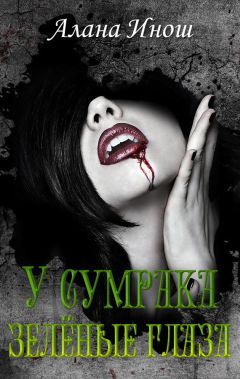— Что?! Что такое? — Твоя круглая голова с мокрым ёжиком волос возвышается над водой, а отражение, дробясь, колышется на волнистой ряби.
— Бррр, тут водоросли, — передёргивает меня. — Склизкие...
— Они что, кусаются? — усмехаешься ты.
— Щекочут...
— А если я тебя пощекочу?
Когда ты, обхватив руками колени, сидишь на покрывале, разостланном на песке, мне хочется тебя нарисовать. Я буквально вижу эту картину — до последнего мазка, до мельчайшего зёрнышка фактуры. Изящные, спокойные линии твоих голеней, выступающие под кожей жилки на тыльной стороне ступней, дуга спины, блеск капель на коже ссутуленных плеч, трогательная острота коленок, озорная рыжинка в русом ёжике на твоей макушке... Всё это просится на полотно, но из рисовальных принадлежностей у меня с собой только воображение. И слова.
Я мажу тебя солнцезащитным кремом, наслаждаясь каждым изгибом твоего тела, каждой выпуклостью выпирающей косточки. Ты поджарая и стройная, твоё тело — нервное, как и твои пальцы. Есть в нём какая-то напряжённая готовность к прыжку, и когда мышцы пружинисто движутся под твоей кожей, мне кажется, что ты сейчас вскочишь и побежишь по волнам, едва касаясь пальцами ног поверхности воды. Я — более округлая и мягкая, и ты любишь уютно устраиваться, как бы укутавшись мной. В вырезе твоих ноздрей — упорство, страсть, улавливание запахов. В линии губ — спокойствие, твёрдость, а в ямочке, разделяющей нижнюю губу на две половинки — едва уловимая чувственность, хорошо спрятанная под маской сдержанности. Разлёт твоих бровей — крылья птицы, вольно владеющей небом, а глаза... Незрячие солнца.
Вот так я рисую тебя словами.
После плавания ты проголодалась, и мы идём в тенёк перекусить. Ты жуёшь сэндвич с куриным мясом, а я глажу твой затылок.
— Ясик-пушистик.
В сумке-холодильнике для тебя припасено пиво, для меня — морс. На свежем воздухе всё кажется вкуснее, даже ещё лучше, чем на даче. Там пространство ограничено забором, а здесь — простор и приволье. Запах воды, сосен, разогретой кожи, пива, морса... Хлеба, который я сама пеку по выходным в хлебопечке. Он вкуснее магазинного, ароматнее и сытнее. Это — настоящий хлеб.
Потом у нас над головами звучит песня сосновых крон. Ветки влюблённо сплетаются, как наши руки, щекочут друг друга и ласкают. Земляника ещё зелёная, но аромат уже непередаваемый — крепкий, лесной, дурманный. Твои пальцы вплетают в песню леса звон гитарных струн, и мне хочется плакать — просто так, оттого что мы живы и нам хорошо, оттого что ты — моя, а я — твоя.
Мой нос шмыгает. Звон струн смолкает.
— Лёнь... Ты чего, маленький?
Улыбаясь, я вытираю слёзы, успокоительно глажу тебя по щекам.
— Да так... Просто мне хорошо.
— Вот глупенькая, кто же плачет, когда хорошо? — ласково усмехаешься ты.
Я выжимаю из век остатки слезинок, решительно встряхиваю головой и предлагаю:
— А пойдём, ещё искупаемся?
Вечер удлиняет тени и сгущает золото в солнечном свете, превращая его в янтарь. Мне хочется нарисовать тебя на фоне косых вечерних лучей, падающих между сосновыми стволами, под листьями папоротника, похожими на руки какого-то диковинного многопальцевого пианиста. Я хочу запечатлеть приставшую к твоей коже жёлтую хвоинку, травинку, торчащую из твоего рта, вот этого паучка, покоряющего твоё обтянутое джинсовой тканью колено, будто Эверест. Всё это можно нарисовать, но как изобразишь тяжесть твоей головы, доверчиво лежащей на моих коленях? Или пушистую щекотку от твоего ёжика? Как нарисуешь нежность, которая мурлычет у меня под сердцем, когда я сверху смотрю на твои ресницы?
Как передать в красках мягкий плен твоих губ, щекотно-влажную борьбу поцелуя? Какого цвета прикосновение твоей ладони и вес твоего тела на мне? Есть ли в природе оттенки, которыми можно было бы воссоздать тепло твоего дыхания на моей коже?
Я не настолько талантливый художник, чтобы написать такую картину. Вечер делает это лучше меня, смешивая на небе палитру из голубого, розового и жёлтого, заливая синевой лесную глубину и превращая озеро в гладкое зеркало, в котором отражается светлый облачный город над тёмными верхушками сосен.
Мы ставим палатку у подножья дерева. Из рюкзака я достаю надувной матрас с изголовьем и постельное бельё:
— Ну что, устроим "Горбатую гору" в женском варианте?
Ты тихо смеёшься. Этот фильм ты "видела" — моими глазами. Рассказ ты тоже читала.
Пожалуй, мне не под силу воссоздать полотно, которое разворачивается этой ночью. Где мне взять мастерство, чтобы показать, как на моей коже от твоих поцелуев распускаются алые цветы? Каким инструментом нарисовать сладкое напряжение, туго скрученное во мне клубком и готовое развернуться, как пушистый огненно-рыжий лисёнок? С чего мне начать, если я даже не могу определить, где кончается моё тело и начинается твоё, какое из двух сердец принадлежит тебе, а какое — мне? Нужно быть по меньшей мере гением, чтобы придать зримый облик тем путям, по которым бродили наши души под звёздным летним небом, и обладать достаточной смелостью, чтобы набросать на холсте уверенными мазками хмельное буйство ощущений.
Ночь умеет всё это, а я — нет.
Я умею только вдыхать запах кожи на твоей шее, ловить губами пульс твоих вен, раз за разом умирать в сплетении наших ног и воскресать для нового погружения...
Я плохой художник. У меня не хватает ни слов, ни мыслей, ни образов, а вот утро тепло, ярко и талантливо рисует твой портрет — с глазами, полными света зари, и приоткрытыми в улыбке губами.
— Лёнь... Ты слышишь? Музыка!
Птицы...
Ты бредёшь по песку к кромке воды, опускаешься на корточки и что-то чертишь пальцем... или ищешь. А я возвращаю нас к прозе жизни: урчащие животы требуют подкрепления, и я сооружаю новые сэндвичи из домашнего хлеба с холодной курятиной. Вспомнив про зелень в полиэтиленовом мешочке на самом дне сумки-холодильника, кладу на мясо веточки петрушки и укропа. Сейчас бы кружку горячего чая, но у нас только пиво и морс. И ещё минералка. Самочувствие? Не знаю, я вообще о нём не думаю. Я думаю о тебе, слушающей озеро.