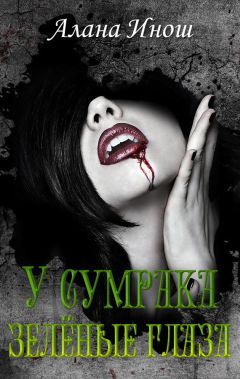— Ясь, ты что там кушаешь? Кто тебя кормит?
Все мои мысли были о тебе: ведь если я свалилась на больничную койку, то некому приготовить еду, убраться, постирать... Всё это делала в основном я, а ты только помогала в меру своих возможностей. Ты могла выбросить мусор, пропылесосить ковёр, достать из машинки и развесить выстиранные вещи, протереть пыль... Что касалось готовки, то ты могла сама сделать что-нибудь несложное — сварить сосиску или пельмени, поджарить яичницу или разогреть то, что приготовила я.
— Не беспокойся, солнышко, — сказала Александра. — Я пока перебралась к вам.
Мне невыносимо хотелось прижаться к тебе, но... попытка приподняться отозвалась головокружением и почему-то болью в сердце.
— Лежи, Лёнь, — сказала ты.
Твои зрячие пальцы скользнули в мои волосы. Не видя, что на нас во все глаза и очки смотрели три притихшие бабули, ты всё же знала об их присутствии в палате, и потому вся твоя нежность, все твои чувства выражались лишь пожатием руки.
Медсестра, пришедшая ставить мне укол, строго сказала:
— Что за толпа? Больной нужен покой. Сейчас укольчик поставим — и баиньки.
Она загнала мне в вену иглу шприца — уже в третий раз сегодня — и с приветливой улыбкой попросила посетителей покинуть палату.
— Лёнь, я приду завтра, — пообещала ты, сжимая мою руку. — Держись.
Уставший качаться тополь за окном повесил мокрые ветки, лишь изредка вяло шевеля вымытыми дождём листьями. Несмотря на укол, "баиньки" у меня не получалось, я только отупела и растеклась по простыне. Спрут уплыл, грозя вернуться и взять своё, а бабули возобновили теологический диспут. Вязальщица в нём не участвовала, предпочитая слушать и строчить петлю за петлёй. Вдруг она воскликнула:
— Едрить твою в бедро!
Две других бабули посмотрели на неё удивлённо.
— Вот я чукча, — выругала себя вязальщица. — Я весь ряд изнаночными прошпарила! Распускать придётся. А вы кончали бы языками чесать, уже тошно слушать, как вы одно и то же перетираете. Вкатили бы вам по уколу, чтобы вы хоть ненадолго замолчали!
Диспут прекратился — очевидно, временно: истина не была установлена. Буддистка сложила пальцы в мудру и ушла в медитацию, а религиозная бабуля прочитала молитвы из чёрного потрёпанного молитвенника, зевнула, перекрестив себе рот, и улеглась. Вскоре послышался её смачный, булькающий храп.
— Вот высвистывает, — усмехнулась вязальщица. — Сейчас выспится, потом всю ночь будет ворочаться да охать...
В общем, у меня были весьма интересные соседки, но я в душе предпочла бы отдельную палату.
Но злоключения только начинались. Когда набожную бабулю выписали, на её место легла новая — кругленькая, как колобок, и очень беспокойная. Это была очень симпатичная бабуля, общительная и весёлая. Мудра (так я прозвала буддистку), потеряв свою прежнюю оппонентку в религиозных диспутах, попыталась выяснить верования новой соседки, но Колобок не проявила склонности ко всякого рода спорам: она была сторонницей мира и дружбы и отнеслась к увлечению буддистки мудротерапией с доброжелательным любопытством, задавала вопросы и слушала ответы и объяснения с искренним интересом. Любознательность Колобка понравилась Мудре, и она сделала её слушательницей своих проповедей. Вязальщица, или, как я про себя окрестила её, Петелька, нашла в новой соседке сестру по спице, если можно так выразиться: Колобок взяла с собой в больницу большие мотки шерсти и начатую работу. Если Петелька вязала какой-то нескончаемый балахон, то Колобок трудилась над детской шапочкой.
— Хоть какая-то польза будет от того, что я здесь проваляюсь, — пояснила она оптимистично. — Вот, внучке шапочку свяжу. Да ещё варежки с шарфиком нужно будет.
Колобок оказалась обладательницей могучего храпа. Нам стало известно об этом её таланте в первую же ночь, когда она затянула оглушительную арию через десять минут после отбоя. Когда мы ложились спать, она сообщила нам, что немного храпит, но Петелька ответила, что её предшественница тоже храпела, так что мы к этим звукам привычны.
— Ну хорошо, раз так, — сказала Колобок. — Но если вам будет мешать, толкните меня в бок, не стесняйтесь.
Но оказалось, что выражение "немного храпит" было слишком слабым в отношении звуков, издаваемых Колобком во сне. Она храпела не просто так, а артистично, с оперными интонациями, так что храп её предшественницы, Богомолки, казался тихим сопением. В шоке была не только я, но и Мудра с Петелькой.
— Как же мы спать-то будем? — послышался Петелькин шёпот.
— Да, у этой храп даже помощнее, чем у Никитичны, — заметила Мудра.
— Никитична по сравнению с ней — просто тихоня, — согласилась Петелька.
Некоторое время мы восхищённо слушали, поражаясь, как такая с виду небольшая и безобидная бабулька могла обладать таким поистине громовым шаляпинским басом. От её храпа дрожали стёкла, и я искренне опасалась того, что они могли треснуть. Было ясно, что под такое музыкальное сопровождение заснуть нам не удастся, и Петелька предприняла попытку как-то прекратить шумы. С тяжким кряхтением она села в постели, долго шарила своими сушёными старушечьими ногами по полу в поисках тапочек, подкралась на цыпочках к Колобку и деликатно постучала по её плечу пальцем.
— Ээ, извините...
Ответом был оглушительный взрыв храпа:
— Грррррхррррргхгхг!.. ("Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно..."[5])
— Да вы посильнее, — посоветовала Мудра. — Нечего деликатничать.
Петелька аккуратно потрясла Колобка за плечо, и та проснулась.
— Храплю, да? — пробормотала она сонно. — Сейчас...
И она перевернулась на бок. Петелька вернулась к своей койке, долго взгромождалась на неё, кряхтя и охая так, будто от усилий вот-вот рассыплется на части, потом наконец улеглась и затихла. Настала сладостная тишина, и мы, наслаждаясь ею, уже успокоились, но, как выяснилось, слишком рано. Через пять минут с кровати Колобка послышалась новая ария.