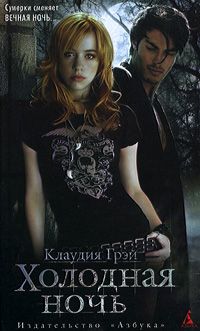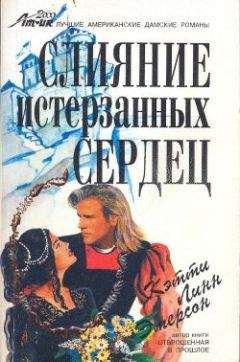– Все равно!
– А на кнопки телевизионного пульта ты тоже нажимаешь сильнее, когда он не работает?
– Да, а что?
– Просто так. А когда ты в раздумье стоишь перед шкафом, ты шевелишь всеми десятью пальцами, как паук лапками?
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
– И что я иногда говорю «простите» журнальному столику в гостиной, когда натыкаюсь на него, ты тоже знаешь?
– О нет, мое воображение не посмело шагнуть так далеко…
– Зато ты по телефону всегда говоришь: «Привет, это я». И правда, это всегда ты!
Прибыл лифт, и его двери захлопнулись за ними. Они были одни. Поль нажал кнопку панорамного ресторана на самом верху. Манон с тревогой следила, как мелькают светящиеся цифры, обозначающие этажи. На седьмом этаже лифт внезапно остановился, и кабина погрузилась в полутьму.
– Вы специально это делаете?
– Манон, я ничего не делал, уверяю тебя! Ты снова говоришь мне «вы»?
– Значит, мы прокляты? Со мной прежде никогда такого не случалось.
– Со мной тоже. Значит, нам на роду написано не ездить вместе в лифте.
– Почему с нами такое происходит?
– Схлестывание волн?
– Все, точка! Конец! Я больше никогда не поеду с тобой в лифте! – заявила Манон, чувствуя, как подступает страх.
– Быть может, на сей раз тебе понадобится меньше времени, чтобы спрятаться в моих объятиях.
И Манон немедленно уткнулась в его плечо. Объятие оказалось гораздо более проникновенным, чем в первый раз, так что Манон почти испытала желание, чтобы поломка продолжалась подольше.
– Мы не будем звонить? – все же спросила она.
– Зачем? – сказал Поль, взяв Манон за подбородок, чтобы немного приподнять ее лицо.
– Низачем, – успела она ответить прежде, чем он поцеловал ее. Торопливо, потому что кабину встряхнуло и лифт продолжил свой подъем, даже не спрашивая их мнения.
Они устроились за столиком возле стеклянной стены. Солнце скрылось за Вогезами, окрасив редкие облачка оранжевым цветом, мягко переходящим в красный.
– Расскажи мне правду о Жюли. Она говорит мне, что все в порядке, но я не знаю, а вдруг это просто чтобы успокоить меня. Ты ее лучшая подруга, я думаю, она тебе все рассказывает.
– По-разному. То хуже, то лучше. Не очень плохо и не очень хорошо. Но она держится.
– К счастью, она сильная.
– «Ты никогда не знаешь, насколько ты силен, до того дня, когда у тебя не остается иного выбора, кроме как быть сильным». Это Боб Марли сказал.
– А, ну раз Боб Марли сказал…
– У нее не так-то много возможностей выбора.
– Например, уйти к нему. Она иногда говорит об этом?
– Бывает. Тогда я тут же даю ей пинок под зад.
– Я страшно зол на себя.
– За что?
– За то, что произошло.
– Ты виноват?
– От меня мало что зависело. Почти ничего. Разве что мы выехали бы на пять минут позже или в тот момент остановились бы в зоне отдыха.
– Жизнь складывается из мелочей. Это было просто чудо – остаться в живых. Во всем, наверное, есть какой-то смысл.
– Какой смысл в том, что мальчик умер из-за пьяного шоферюги?
– Надо постараться найти смысл.
– Если найдешь, скажи.
– Пока ищу.
– А пока найди, что ты будешь есть…
Манон не стала резко захлопывать меню. Она не испытывала необходимости, чтобы он читал ей его вслух, а она не видела бы цен. И ей безразлично, что каждый кусок стоит пять евро. Манон наслаждалась жизнью. Она простодушно приняла приглашение. Она защищает свое место женщины, хотя не считает себя ярой феминисткой, и ей даже в голову бы не пришло заплатить за себя. Во-первых, потому, что она знала, что Поль возмутится, а во-вторых, потому, что ей нравилось подобное проявление галантности, за исчезновением которой в процессе эволюции общества и утраты им ориентиров она с сожалением наблюдала.
Поль уже давно выбрал. Он закажет то же, что Манон. Не важно что. Он непривередлив. Ему просто хотелось следовать за ней в выборе блюда, в предстоящей беседе – и даже на край света, если потребуется.
Пока она медленно читала меню, он наблюдал за ней. Наконец Манон захлопнула меню и торжествующе взглянула на Поля. Она выбрала. Наконец-то.
– Тебе известно, что не только Боб Марли изрекает истины?
– Да? – притворно изумилась она.
– Альберт Эйнштейн тоже.
– Поговорим о теории относительности?
– Точно. Но не о той, которую ты знаешь. «На минуту приложите руку к горячей печке, и минута покажется вам часом. Просидите час возле хорошенькой девушки, и он покажется вам минутой. Вот что такое относительность».
– Все зависит от температуры печки.
– И от хорошенькой девушки.
– Неужели? А относительность времени, проведенного со мной?
– Одна секунда.
– Сейчас я покраснею, как раскаленная печка.
– А я все-таки приложу к ней руку.
– Всего на секунду?
– Я остановлю время…
То, что происходило в тот вечер между Полем и Манон, стало бы бальзамом на душу Жюли.
Чистым бальзамом.
Одно горе за одно счастье.
Одно огромное-огромное горе за чудесное счастье. И не важно, что это неравноценно. В течение нескольких недель наблюдать, как они стремятся друг к другу, пленяются и наконец находят друг друга сегодня вечером, обрадовало бы ее. Потому что жизнь продолжается. А они были теми людьми, которыми она дорожила. Поэтому, если они счастливы, это хоть немного собирало лего ее жизни.
– Я вами горжусь, Жюли. Сегодня мы поднимаемся на очень высокую вершину.
– Люк – мой афелий. Мне обязательно надо подняться как можно выше, чтобы прикоснуться к нему хоть кончиками пальцев.
– Вы знаете это слово?
– Какое? Пальцы?
– Афелий, – улыбнулся он.
– А почему бы нет?
– Действительно, почему?
– Точка орбиты планеты, наиболее удаленная от Солнца.
– Не оправдывайтесь!
– Это чтобы помочь вам выбраться из неловкого положения на тот случай, если вы вдруг не знаете.
– Я это знал.
Жюли уселась по-турецки. Но прежде она положила камешек в небольшую кучку, такую надставку к горе, созданную руками человека, песчинку по сравнению с огромностью того, что находилось у них под ногами. Это был мощный символический жест. Жюли всматривалась в горизонт. Небо расчистилось, но все равно тяжело нависало над ними. Это совпадало с тем, что она чувствовала. Прошло несколько месяцев. Ум освободился, но на сердце было нелегко.
Ромэн сидел немного поодаль и наблюдал за молодой женщиной, которую знал меньше года. Он познакомился с ней, когда она была исполненной надежд матерью, и у него на глазах превратилась в сироту своего ребенка – для такого состояния и названия-то нет. Он видел, как она сдавалась, а потом постепенно снова возрождалась к жизни. И пусть она говорит, что он безмерно помог ей, Ромэн знал, что вся заслуга в этом принадлежит ей одной. Она сама собрала разрозненные детали пазла, заново научилась играть в лего. Самое большее, что он сделал, – дал ей несколько советов. Но не более того.