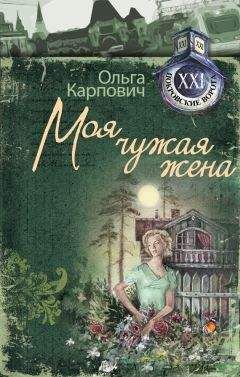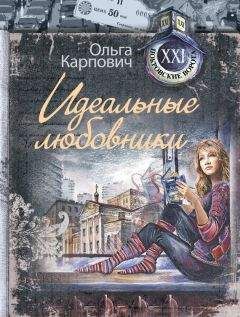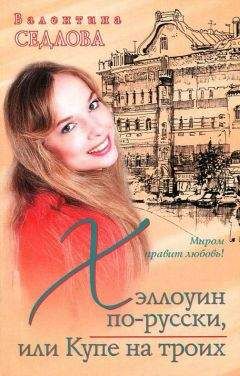…Вечер тянулся бесконечно. Глаша, конечно, увидев Алю, разохалась, бросилась обнимать «милую девочку». Не удалось отвертеться и от ужина. Что уж говорить — благостное семейное застолье на лоне природы. Никита понимал, что нужно уезжать, что ждать больше нечего, что он мешает этим двоим. Но ничего не мог с собой поделать, горбился за столом, не обращая внимания на легкие толчки Ленкиного локтя. Казалось, вот еще последний взгляд на нее, последнее слово… А вдруг это что-то изменит, вдруг?
И лишь когда за окном совсем стемнело, Ленка, измаявшись, открыто произнесла:
– Дмитрий Владимирович, мы вас совсем заболтали. А вам отдыхать, наверное, надо. Никит, поедем?
И Никита поднялся из-за стола, кивнул — поедем, да. И обратился к Але:
– Мы на машине. Подвезти тебя? Ты где остановилась?
– Пока нигде, я на даче останусь, если Дмитрий Владимирович не возражает.
Ленка, подавив вздох облегчения, воспряла духом:
– Ну в самом деле, что ты, Никита… Где сейчас в Москве свободный номер в гостинице найдешь? Можно было бы к нам, да квартира… э-э-э… тесновата. А тут столько свободных комнат… И воздух опять же…
– Ну что ж… — промямлил Никита, направляясь к двери.
И, поравнявшись с журнальным столиком, на котором все еще расставлены были шахматные фигуры, щелкнул ногтем по черной лакированной пешке. Фигурка завалилась набок и покатилась по доске.
– Я ошибся, ты опять выиграл, папа, — констатировал Никита. И, дернув за руку Лену, вдруг с деланой серьезностью осведомился: — Ленка, а тебе, случайно, мой отец не нравится?
Дмитрий Владимирович, не глядя на него, потянулся за папиросой. Аля, вспыхнув, отвернулась к окну. Лена захлопала глазами:
– Что?
– Что что? — Никита чувствовал, что еще немного, и его голос сорвется. — Батя мой нравится тебе, а?
– Ну как… — растерялась Ленка. — Заслуженный человек, талантливый, известный… К тому же, ты — сын Дмитрия Владимировича…
– Эх, Ленка, не разбираешься ты в мужиках, — хохотнул Никита. — Ладно, пошли.
Ухватив девушку за запястье, Никита потащил ее за собой и выскочил из дома. Он ни разу не посмотрел на янтарно-желтые прямоугольники окон, светившихся в черноте ночного сада. Ни разу не обернулся, чтобы не видеть, как, едва закрылась за ними дверь, отец распахнул руки и Аля приникла к его груди, сглатывая подступившие к горлу слезы.
Ясное июльское солнце плавилось над головой. Тяжелые белые облака застыли на фаянсово-синем небе. Слева чернел густой лес. Впереди раскинулось широкое, золотом отливающее поле. Синие звездочки васильков выглядывали между тяжелых, клонившихся к земле колосьев. За полем дрожал в густом жарком воздухе огонек, отразившийся от маковки сельской церкви. За церковью угадывался в душном мареве обрывистый берег реки. В церкви ударил колокол, и густой тягучий звон поплыл над полем, мерно покачиваясь в жарком воздухе.
Митя шел впереди, держа в одной руке Алины босоножки. Она отставала — то отойдет к опушке леса, чтобы сорвать розовую дикую гвоздику, то склонится среди колосьев за васильком. Митя остановился, поджидая ее, запрокинул голову, залюбовался куполом неба. Аля тихо рассмеялась позади. Он оглянулся вопросительно и увидел, что она приставила к глазу ладонь, сложенную трубочкой.
– Ты что? — улыбнулся Митя.
– Могу поспорить, ты сейчас думаешь о том, с какого ракурса лучше снимать это поле, небо. Как лучше расположить в кадре берег реки, купол церкви и, — Аля приняла шутливо-кокетливую позу, — белокурую лесную нимфу с васильками.
Митя грозно нахмурил брови, бросился на нее с шутливым гневом, Аля ловко увернулась, заливисто хохоча. Митя сильной рукой обхватил ее за талию, прижал к себе, и дальше они пошли вместе, рядом.
– На самом деле ты не права, — возразил Редников. — Я об этом не думал. Кажется, впервые в жизни… ну их к чертям, все эти кадры, панорамы, режимы…
Аля краем глаза наблюдала за ним, поражаясь перемене, произошедшей в Мите. Трудно было поверить в эти его слова теперь, после стольких лет. Трудно и страшно.
– То есть я зря мчалась сюда из Франции. На главную роль ты меня не возьмешь? — попыталась она за шуткой спрятать свое недоверие.
– Ты и так моя самая любимая героиня! И по метражу гораздо дольше, чем на два часа, — с неожиданной серьезностью ответил Митя.
Он развернул ее к себе, сгреб в охапку, шепча куда-то в ее распущенные волосы:
– К черту… к черту… Вот есть ты и есть я. И больше ничего не нужно…
Митя оторвал ее от земли и бережно опустил на стог скошенной травы у лесной опушки. Алины волосы смешались с сухой травой, глаза ее распахнулись навстречу ему, губы чуть приоткрылись, улыбаясь, и она протянула к нему руки. Митя чувствовал, как голова его начинает кружиться, как все его тело словно окутывает шепот ветра, вязкое, пахнущее солнцем и скошенной травой марево. И вдруг спросил, словно вспомнив что-то, давно не дававшее покоя:
– Я все думал… Почему ты сказала «вечность»… Тогда, в лодке?
Он увидел, как дрогнули Алины зрачки, как прикрыла она на мгновение глаза, прошептав:
– Любовь и есть вечность. Это наш человеческий способ стать бессмертными… Понимаешь?
– И в тот день нам это удалось? Стать бессмертными? — настаивал он, дотрагиваясь губами до ее шеи.
– Да, — кивнула Аля. — Просто ты об этом еще не знаешь…
Митя хотел еще что-то спросить, но ее руки уже скользнули по спине вдоль позвоночника, губы дотронулись до темной впадины под ключицей, и он забыл обо всем. Только необъяснимое слово «вечность» осталось дрожать в теплом воздухе вместе с отзвуками колокольного звона.
…Они просыпались вместе в обшитой деревом спальне, гуляли по умытым росой полям, набрасывались на приготовленный Глашей обед. По вечерам Аля спускалась вместе с ним в овраг кормить деревенских собак. Она садилась на корточки, протягивала руку, гладила по бархатистой холке одного из псов. И Митя вполголоса рассказывал ей о Тиме, верном друге своего детства.
– Давай заведем собаку, — оглядывалась на него Аля.
– Давай, — легко соглашался он. — Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить.
Потом были долгие вечера на веранде. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над лесом багряными полосами. Митя садился в кресло, Аля забиралась к нему на колени, затихала. И он слышал, как бьется совсем рядом под тонким летним платьем ее сердце.
Никто не беспокоил их. Никита с того вечера так и не появлялся, но Редников узнал по своим каналам, что сыну разрешили запуститься с картиной. Его новоиспеченная гражданская жена регулярно звонила, справлялась о здоровье. Но других вопросов не задавала. Глаша приняла их воссоединение с Алей на удивление спокойно. И Редников понял по ее мудрым усталым глазам, что она давно все знала про них, давно догадалась и теперь лишь радовалась тому, что все наконец-то устроилось и хозяин счастлив. Еще дважды раздавались звонки из Госкино, предлагали Дмитрию Владимировичу место преподавателя на Высших режиссерских курсах. Вероятно, это нужно было расценивать как высочайшую милость, на которую ему не приходилось рассчитывать после его мосфильмовского демарша. Редников от места отказался.