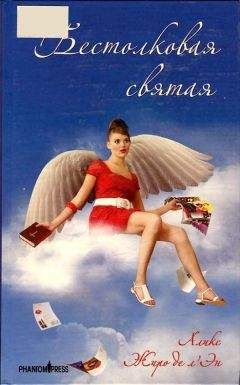Феодосья попыталась заглянуть внутрь его.
– Велико корыто, хозяюшка? – хмыкнул один из мастеровых.
– Как у тещи широко! – подмигнул товарищу рабочий.
– Цыц, срамословники! – прикрикнул розмысля. – Пойдемте далее, Феодосья Изваровна.
Вдоль частокола тянулись глубокие деревянные лотки – сосновые полубревна, схваченные железными скобами и обручами, по которым бежал рассол в варницу. Рабочий ходил вдоль лотка и глядел, как бы не застрял ток, не полился рассол на земь. Ежели где стопорилась и бурлила соленая река, мастеровой пропихивал, прочищал лоток. Феодосья углядела страдальчески, что руки рабочего разъедены солью до язв.
– Иногда по трубам рассол идет, иногда – по лоткам, это не столь важно, – пояснял розмысля.
Черная закопченная варница, облитая наледью, показалась Феодосье утопленником, что вытащили как-то при ней из полыньи на берег. Из ворот варницы и из-под крышы валил грозовой дым.
Феодосья решительно вошла внутрь, не глядя, где ступить дорогими малиновыми сапожками? И сразу стало трудно дышать, словно изринулся на лицо пар от брошенной на банную каменку воды. Только каменка та была с рудничную гору размером.
– Здесь четыре водолива, по которым рассол течет, – пытаясь разогнать перед Феодосьей дым и пар, прокричал розмысля. – Рассол должен поступать без перерыва, день и ночь.
Феодосья все более хмурилась.
– Сколько же бадей рассола поднимают из колодца те рабочие? – тревожно спросила она.
– За сутки пять сотен.
– Да ведь она огромная, не то что ушат?
– Три ушата, Феодосья Изваровна. А иначе нельзя, иначе выварка встанет. А без соли живот остановится. Вы, аз зрю, распереживались очень, а мастеровым работа в радость. Их на всех-то варницах больше сотни, и каждый за год пять рублей заработает. Товары на них купит, в питейном доме повеселится – с деньгам-то, сами знаете, хозяин – барин. Куны есть – Иван Иваныч! А без кун – кто ты? Черносошной мужик.
У Феодосьи нестерпимо защипало от дыма и соленой пелены глаза, да так свело, что аж личину перекосило и слезу вышибло.
Несколько рабочих сгребали с црена соль. Другие оттаскивали кули за ворота, видимо, в амбар.
Феодосья быстро вышла на улицу и вдохнула до ломоты в ребрах морозного воздуха.
– Господи, да это подземелье адское!.. – пробормотала она. И отдышавшись, поблагодарила розмыслю: спаси вас Бог за обход, за сказ.
– Да не за что, Феодосья Изваровна. Вам спаси Бог, что не побрезговали работы обозрить.
Феодосья торопливо прошла к саням и толкнула закостеневшего от мороза Фильку:
– Домой!
Доехали быстро – господский двор стоял невдалеке, за сосновой рощей, и шагом бысть туда ходу раз-два и обчелся. Но положение господское не дозволяло Феодосье бродить сахарными ноженьками, сапожки мять. Феодосья вошла в хоромы в смятении. Черно было в зеницах, сумрачно на душе. Горе смерти Истомы изменило ея нрав – не веселилась уж Феодосья без причины, просто от радости живота, а, наоборот, впадала в кручину по всякой томительной малости. Вот и сейчас виды черной варницы, изъеденные солью длани рабочих, их отрешенные лица наполнили нутро тоской. В ушесах стоял скрип необъятной бадьи, треск огромных костров, аспидное шипение цренов.
– Господи, почто в муках таких живет человек посадский? – упав на колени перед домашним алтарем, закрестилась Феодосья. – Али от греха? Пожалеешь ли ты, Господи, несчастных тех, если я за них страдать буду? Усмирять плоть, не потакать желаниям? Отец Нифонт рекши, что можно вымолить пощаду за других. Прошу тебя, Господи, прими мое смирение за их муки.
Долго еще бормотала Феодосья, расспрашивая Господа, в чем конкретно может она усмирить свою плоть ради других варничных страдальцев?
Сказать правду, более всего боялась Феодосья наказания за свой грех чадцу в утробе. Но произносить вслух его опасалась, почто лишний раз Богу напоминать о любострастном грехе? Он хоть и зрит все, но тоже, небось, об чем-то и запамятовать может. Забывает же иной раз об ином тотьмиче: живет жена али муж девяносто лет, уж просит смерти, а Боженька никак вспомнить о них не может. Вот и решила Феодосья, сама себе в том не признаваясь, даже, возможно, об том и не догадываясь, завоевать прощение беззаконному чадцу Агеюшке, молясь об спасении и облегчении потуг солеварочных рабочих.
Она принялась хлопотать с молитвою. Кормила смиренно мужа Юдашку щами и пирогом, провожала его до ворот, держа за сапог в стременах. А вечером легла на сундук в светелке. Юда, пошарив жену на одре, сыскал ея лежащей на верхнем этаже в комнате для рукоделия.
– Ты чего это, жена, сдеся делаешь? Пошли-ка.
– Я здесь почивать буду.
– С чего это?
– Среда сегодня. Для любодейства – грех.
– Будет тебе! Грех, пока ноги вверх. Али я тебе не муж?
– Не пойду! – неожиданно сурово ответила Феодосья.
– Али мне холопку звать при живой жене? – оскорбленный ея тоном, зло бросил Юда.
– Уйди, насильник злой! – вскричала Феодосья. – Воздержавшись в среду, и пятницу, и святую субботу, и светлое воскресенье, запишется Ангелом в книгу добрых деяний. Либо запишет ангел сатаны в книгу злых деяний.
– В собственной жене нет греха, – промолвил Юда.
– Среда сегодня! Святая среда!
Юда схватил Феодосью за ворот душегреи и сволок с сундука.
– Ну так будет тебе в середу с переду, а пятницу – в задницу!..
– Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! – принялась восклицать Феодосья.
Она широко раскрыла глаза и истово исторгала свое «господи помилуй», пока Юда, овладев со злобой женой своею, не бросил ея лежать на полу.
Глава пятнадцатая
Дискуссионная
– Аер, видите ли, звонкий и звездочки дрожат!.. – отец Логгин возмущенно посеменил перстами, изображая, как именно подрагивали звезды в морозном небе. – Что сие есть, как не аеромантия?!
– Да-а… Уж… Аер… Хм… Гм… – отец Нифонт издал различные солидные звуки и принялся поправлять крест на животе.
– Дондежи, прости Господи, в лоб посохом не вдаришь этакой бабе сущеглупой, все будет веровати в каждый чих! – возмущенно трепыхал власами отец Логгин.
– Пф-ф-ф… – рекши отец Нифонт и, отступившись от креста на чреве, принялся разбирать и одергивать рукава рясы.
Праведный гнев отца Логгина вызвала проскурница Авдотья, которая, встретя в шесть часов утра батюшку у дверей церкви и отмыкая замок, сдуру возьми да и рекши, мол, звезды дрожат, стало быть, мороз крепчает, и волки сызнова, как на той седьмице, набегут стаей на Волчановскую улицу да подерут собак. Отец Логгин констатировал прогноз Авдотьи, как в чистом виде богомерзкое воздуховолхование, или, как выразился он книжно: