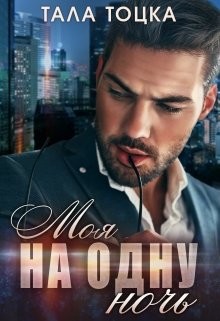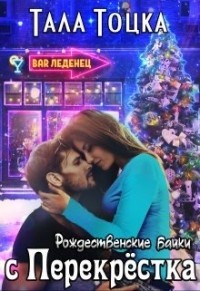— Можно, сынок.
Никита достал из рюкзачка большую витиеватую карамель в прозрачной обертке и протянул Шамилю.
— Возьмите. И не плачьте. Мама говорит, что мужчина не должен плакать при всех.
— Спасибо, родной, — Шамиль взял мальчика за руку, — твоя мама знает, что говорит. Она стоит десятка мужчин.
Поймав взгляд Даны, Баграев спросил почти беззвучно:
— Он знает?
Данка снова покачала головой, тот бессильно откинулся на подушки.
— Приведи их еще раз. Пожалуйста…
Она не ответила, просипела: «Выздоравливайте», — взяла детей за руки и вывела в коридор. Надо дождаться Олю, а потом можно попросить Аверина их куда-нибудь отвезти. Можно в парк.
— Мама, а почему ты говоришь на него дядя, если он дедушка? — спросил Никита. — Он же старый.
— Он не такой старый, Никита, — начала говорить Дана и осеклась, замерев.
Попятилась, притянув к себе детей. Внутри будто натянулись сотни струн, вибрируя на самых высоких нотах, завывая и лопаясь. Ноги мелко дрожали — да она вся дрожала, все сильнее сжимая детские ладошки.
Потому что прямо напротив нее стоял Даниял.
У каждой боли есть порог, выше которого ее усиление перестает играть существенную роль — это Даниял хорошо усвоил за последние четыре года. А главное, он знал, что когда болит тело, это не идет ни в какое сравнение с тем, когда режется на полоски сердце.
Когда в лохмотья рвется душа. Когда жжет напалмом совесть и чувство вины. Когда разверзается пропасть, в которую невозможно бесконечно падать — можно лишь стоять на краю, пока осознание непоправимости леденит внутренности.
Его давно интересовало — а в чем измеряется боль, у каких единицах измерения? И во сколько раз боль от физических повреждений меньше боли невидимой, незримой? Раны от нее не видны, но рубцы, остающиеся в душе, уродуют не меньше.
Болевой порог Дана был преодолен, когда он узнал, что компромат на его Данку был сфабрикован. Все последующие факты сознание в какой-то момент просто перестало принимать — они отлетали как теннисные мячики от ракетки.
И еще Даниял знал, что боль от ран и повреждений и боль при восстановлении имеют не только разную шкалу, но и различную градацию. Предательство семьи не стало для него шоком, его не убило нежелание Ольги говорить о чем-то, что не имело прямого отношения к ранениям отца.
Разве имеет значение, откуда были взяты фото, если первым, кто втоптал в грязь его девочку, был сам Даниял? И если у него будет полная и связная картина происходящего, разве это вернет ему Данку?
И все же он позвонил Рустаму и попросил разрешения поговорить с его женой.
— Мне нужно, чтобы ты рассказала, как твой отец требовал от тебя придать нашему браку законности, Зарема. Только не мне, другому человеку, я дам его номер. Очень важны детали, постарайся вспомнить как можно больше. И лучше это сделать по видеосвязи.
Дан не зря внес такое уточнение, феноменальная способность Аверина считывать информацию с лиц собеседников порой пугала. Да и контакт так установить легче.
— Хорошо, Даниял, — она только успела сказать, как из динамика снова зазвучал голос Рустама:
— Только в моем присутствии, Даниял, я не хочу, чтобы моя жена переволновалась. Сам знаешь, что это нежелательно.
Дан знал. Зарема была беременна вторым ребенком, переживания мужа о ее безопасности были понятны. И он не возражал.
Еще хотелось поговорить с отцом, но следовало подождать, пока его сердце не пришло в норму. По крайней мере, так говорили врачи. Но и это не давало возможности Даниялу получить прощение от своей жены.
Аверин ходил мрачнее тучи, а Дан не мог признаться самому себе — в глубине души он желает, чтобы это расследование длилось вечно, потому что сейчас в его жизни была цель — найти и наказать виновных. А что останется ему потом, когда те будут найдены и наказаны?
К сожалению, он слишком хорошо знал ответ — это пустота и боль. Непроходящая боль и ледяная пропасть, над которой стоять ему до конца своих дней.
…Сигнал вызова ворвался в сознание, выхватил из глубины и выбросил на поверхность. Дан совсем перестал спать ночами, засыпал лишь под утро, не столько даже засыпал, сколько забывался. Вот и сегодня он только-только уснул. И какая же сволочь трезвонит с самого утра? Впрочем, Дан и так знал, кто это, можно было даже не смотреть на экран.
— Баграев, ты что, спишь? Шутишь? Встал-оделся и дуй в больницу. Это срочно. Нет, с отцом твоим все хорошо. Так, ты меньше болтай, Баграев, быстрее чешись…
Даниял был готов через десять минут и даже успел в душ, еще через десять он подъезжал к зданию областной клинической больницы. А еще через три поднимался по широкой больничной лестнице в хирургическое отделение.
Все больницы мира пахнут одинаково — больницами, медикаментами и болью. Дан старался дышать пореже, когда ступил в больничный коридор. Палата, в которой лежал отец, находилась в конце, он шел, и откуда-то появилось чувство тревоги.
Даниял ускорил шаг. Аверин сказал, с отцом все хорошо, значит дело не в нем, а в чем же? Дверь палаты открылась, Дан остановился, чтобы пропустить выходящего. Время обхода, это или доктор или медсестра. Хорошо, можно подробнее узнать о состоянии отца…
Он увидел их будто в замедленной съемке. Сначала встретился глазами с ней — целиком поймал и поместил в кадр — потом взгляд скользнул ниже и выхватил еще две пары глаз — маленьких и блестящих как сапфиры. Синие глаза. Его.
В голове хаотично возник шум, природу которого Дан затруднялся определить — то ли выстрелы, то ли скрежет металлического корпуса о бетон, то ли гул гигантской волны. Почему-то теперь у него не получалось поймать цельную картинку — она все время ускользала.
Отпечатывалась в голове негативами, расползалась на разрозненные обрывки с рваными краями и расплывчатым изображением. Чтобы ухватить, удержать, не дать расплыться за свои пределы, Даниял протянул руку. И окончательно убедился, что перед ним не призрак.
Она испугалась. Его Данка боялась его, она застыла на пороге и инстинктивно прижала к себе детей, словно защищая. От него. Его детей. Теперь скрежетало и проворачивалось в груди, причиняя тупую боль — значит, он не заслужил даже знать о том, что у него есть дети.
Как же ее успокоить, попросить, чтобы не боялась, если язык не слушается, а во рту сухо и горячо? Как уговорить, чтобы не исчезала? Дан протянул обе руки, будто хотел обнять всех троих, шагнул вперед, и сразу между ними вклинились трое, заслоняя от него его семью — двое охранников, а третий… Аверин?
— Вернитесь назад, Даниял Шамилевич, — сказал тот негромко, но Дан уже видел, что это не он. Просто похож, но не он. Этот молодой, и его не хочется убить.
Вмиг в голове сложился пазл — ему тогда не померещилось, они правда были в ресторане. Молодая копия Аверина и его Данка. На руке у «копии» сверкнуло обручальное кольцо, и Дан чуть не задохнулся.
— Муж? — он выстрелил глазами сначала в Данку, потом в этого.
Дана и ее франтоватый защитник синхронно мотнули головами, и его отпустило. Дан смотрел на нее, жадно впиваясь глазами, будто ему ее вернули на некоторое время, чтобы посмотреть, а потом она вновь пропадет на долгие годы.
— Мама, что это за дядя? — раздался тоненький голосок, и Данияла будто пронзили и рассекли пополам.
Девочка, похожая на куколку. Светленькая Настя, дочка Дарьи Михайловны, учительницы английского… Нет. Его дочка. И темноволосый Никита, его сын. Он узнал их сразу, еще тогда, из целой толпы детей выхватил взглядом… Нет. Не взглядом. Сердцем.
— Даниял! — от звука этого голоса сердце на миг перестало биться, а потом заворочалось несмело, чтобы не помешать ему слышать этот голос, пусть и говорила его Данка почти неслышно. — Даниял, не испугай детей…
Снова сердце провернулось, затопило страхом, смешанным с незнакомой, щемящей нежностью. Конечно, это же его дети, он их отец, разве он способен причинить им вред? Дан несколько раз кивнул и ответил, как и она, одними губами: