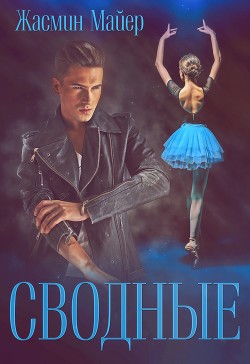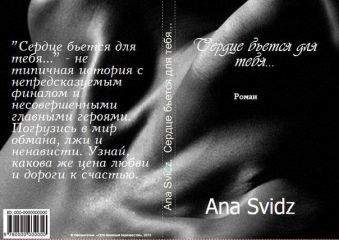А вот Кай пружинит, обманывает, не размахивает руками, как Розенберг, который больше напоминает мельницу. Кай держит локти у корпуса и даже отступает обратно в комнату, но потом делает какое-то движение, которое я не могу определить сходу.
И через мгновение Яков охает.
А потом сгибается пополам, с глухим рыком хватаясь за лицо.
Взрывы за окнами сливаются в оглушающую какофонию, и из другой комнаты доносятся удары курантов. Я слышу звон хрусталя, сдавленные стоны Якова, неразборчивый мат Кая сквозь стиснутые зубы. И только громкое: «Понял меня?», на которое Яков кивает, но больше не пытается ничего сделать.
Только бросается к дверям, продолжая закрывать нижнюю половину лица обеими руками. Даже сквозь пальцы я вижу что-то черное и липкое, и не сразу понимаю, что это кровь.
Неправильность происходящего зашкаливает.
Я хочу обернуть время вспять, остановить Розенберга и не дать Каю совершить очередную ошибку, которую потом объяснить другим будет очень сложно. Но поздно. Как сквозь толщу воды я слышу визг Оксаны, причитания, стоны Розенберга, и следом тяжелые, решительные шаги моего отца.
— Что ты сделал? Зачем ты выбил Якову передний зуб, Костя?!
Это все я, это все моя вина, папа, хочу крикнуть ему, остановить его и не дать войти в комнату, но отец смотрит на Кая, а до меня ему нет никакого дела.
— Выйди, Юля.
Нет! Нет! Но голос меня подводит. В такие моменты, как этот, я почему-то немею, замираю, руки и ноги становятся такими тяжелыми, как никогда не были. Все слова кипят в голове, но язык, рот, голосовые связки и даже легкие — ничего мне не подчиняется.
Моя боль только обжигает изнутри, как глоток чистого уксуса. Нет, нет, нет, это не он, не он, папа! Неужели ты не видишь, какой он?
— Я сказал, выйди, Юля!
Он редко поднимет на меня голос. Так редко, что теперь ноги сами несут меня вон, а сердце колотится в груди от ужаса. Я бегу вон из этой комнаты, где на паркете остались пара густых багряных капель, потому что мне действительно становится страшно.
Выбил зуб.
Передний. Одним уверенным движением.
Должно быть, это больно.
Но поразительно, когда я захожу на кухню, где Оксана выложила, наверное, все виды заморозок, какие у нас только были в холодильнике, перед Розенбергом, как будто есть разница, чем охлаждать разбитую губу — замороженной кукурузой или куском говядины, — то начинаю смеяться.
Истерично, захлебываясь и до слез.
А стоит услышать, как шепелявит Розенберг в ответ на заботу Оксаны, как моя истерика идет на новый виток.
Оксана и Яков смолкают, и только ждут, пока меня отпустит.
И следом меня с размаху бьет осознание, что все, что я сейчас скажу в защиту Кая, не сработает. Надежда была. Но стоит увидеть перед собой Оксану, вспомнить застолье, тот несчастный «Оливье», и я пониманию — не с Оксаной.
Она, по умолчанию, встанет на сторону обиженного Розенберга.
Даже если я скажу, что Кай защищал мою честь. Она только отмахнется, что самое последнее дело махать кулаками и надо было сдержаться. Но что ожидать от такого сына, как он?
— Я пойду, — шепелявит, прижимая ко рту пластиковый пакет. — Шпашибо.
— Юль, проводи его, пожалуйста. Яков, тебе вызвать такси? Как ты доберешься?
Розенберг молча показывает экран телефона. Я понимаю его без слов.
— У Якова есть водитель. Он сейчас будет.
— О, слава богу! — восхищается Оксана, бросая на меня многозначительный взгляд.
От того, что означает этот взгляд, в желудке снова плещется кислота. Присмотрись к нему, такой завидный жених.
Яков молча одевается, на мгновение убирая от лица пакет. Потом мы оба выходим к лифту.
— Лея жнает?
Качаю головой.
Где-то выше и ниже хлопают дверьми, люди смеются и кричат за стенами квартир: «С новым годом!!», а мы стоим в пустом подъезде. Два человека, которые знакомы лет десять, но оказалось, что все равно недостаточно хорошо знают друг друга.
— Яков, просто.. прими это. Мы не будем вместе. Никогда. И постарайся оставить меня в покое.
Лифт прибывает и раскрывается, но Розенберг не двигается с места. Я стою в одном платье, и мне холодно. Кай уже бы это понял, но Якову и без меня хватает переживаний за сегодня.
— Жнаешь, почему моя шештра жовет тебя Лю? — шепелявит Розенберг. — Это я так жвал тебя. Думал, никто не догадается. Я же влюбился в тебя шражу. Как только увидел. С шести лет, Юль. Уже тринадцать гребанных лет. А ты… С ним.
Лифт захлопывает створки, будто отрезая обе наши жизни на до и после. Одним звучным металлическим хлопком.
Бац.
И как прежде уже не будет.
— Он тебя бросит. Увидишь. А я фсегда буду ждать.
Вместо того, чтобы нажать на кнопку снова, Розенберг разворачивается к лестничным пролетам и уходит, больше не говоря ни слова.
Глава 17
Я жду очень долго.
Время тянется бесконечно. Сначала мой отец не уходит от Кая, а после в спальню Кая заходит Оксана. Эта часть длится как раз меньше всего. Она выбегает из спальни, хлопнув дверью, и потом они долго сидят за праздничным столом вместе с моим отцом.
Оксана всхлипывает, и в тишине только звенят их бокалы, когда отец подливает ей вина.
Праздновать уже нечего, но они не уходят из-за стола, откуда прекрасно видно дверь моей спальни. Поэтому я просто сижу на полу, прислонившись спиной к двери, и жду, когда они уйдут к себе. Больше ничего не остается. Сна нет ни в одном глазу, а звонить Каю — бесполезно. Разговор по телефону его не поддержит.
Все было бы проще, если бы я согласилась с ним, и мы признались бы родителям еще во время его второго переезда. Говорить им сейчас — худший сценарий из всех.
Но я уже и не верю, что может быть подходящее время для таких признаний. Кай был прав. Никто из них не будет готов к наши отношениям.
Сидя в темноте, на полу, возле двери собственной спальни, я думаю о том, как мы обязательно признаемся. Пусть снимут карантина, я перееду в Академию, Кай — в квартиру матери. Жить с отцом я не смогу, а никак иначе он не поймет, что я уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, с кем мне быть.
Наверное, будем встречаться с Каем только на выходных, но хотя бы так, чем прятаться. Ждать, как сейчас.
Из спальни Кая не доносится ни звука.
Кажется, я все-таки засыпаю, прямо сидя на полу, мечтая о том, как это будет потом, когда нам больше не придется скрываться, а просыпаюсь из-за удара. Глухого, странного удара, и по полу как-то странно тянет холодом.
Вскакиваю на ноги и подлетаю к двери Кая. Стучу тихо, но настойчиво. Кай щелкает защелкой.
— Разбудил? Прости.
Я вижу, что он пьян. Понимаю за долю секунды, а бардак за спиной в его комнате объясняет и грохот, и его состояние. Почему-то хочется уйти, поговорить завтра, но в спальне родителей зажигается свет. Тонкая полоска под дверью пугает меня сильнее, чем пьяный Кай, которого я никогда не видела таким.
Прячусь в его спальню, отпихнув в сторону, и закрываю дверь.
Кто-то из родителей идет по коридору. Останавливается и прислушивается. За окном на удачу взрывается забытый и одинокий салют.
Мой отец, а это он, я узнаю тяжелые шаги, разворачивается обратно в свою спальню.
— Все нормально? — доносится голос Оксаны.
— Да, показалось…
Остаток разговора скрадывает закрытая дверь и расстояние пустого коридора между нами.
Кай тем временем отпихивает рюкзак, зачем-то под кровать, на которой вперемешку с постельным бельем разбросаны, кажется, все его вещи. Распотрошенный шкаф стоит с распахнутыми дверцами.
— Что происходит? — голос меня подводит. — Что это значит?
Он разводит руками, тянется к пачке, но та оказывается уже пустой. Рядом лежит другая. Тоже пустая. Тогда Кай тянется к бутылке с вином и опрокидывает в себя половину стакана.
— Нормального ответа не будет? Почему ты собираешь вещи, Кай?
— Искал твой подарок, — отвечает он, не моргнув глазом.