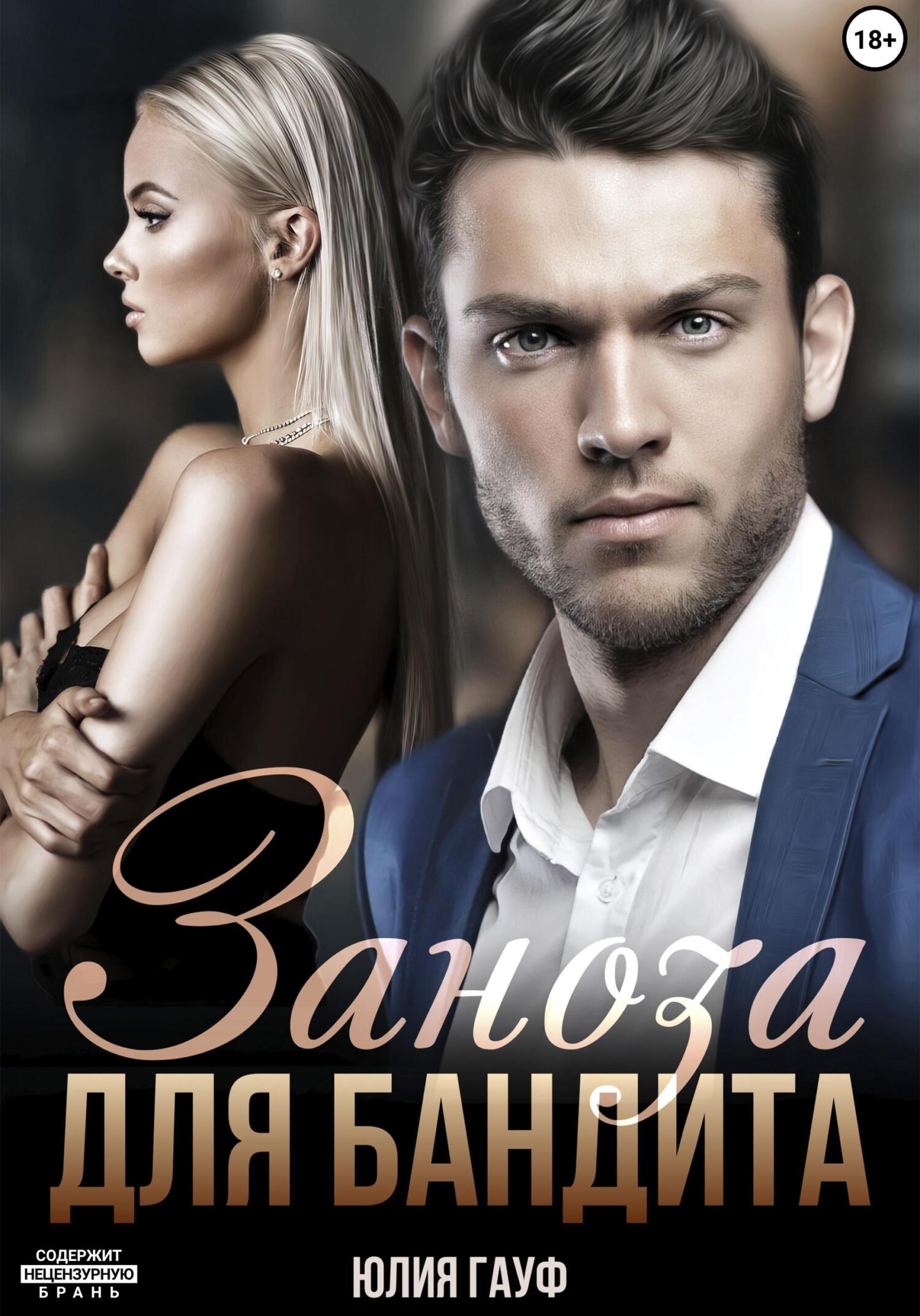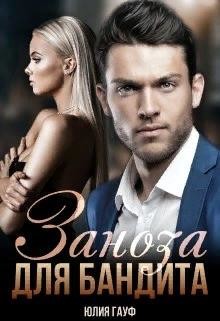бьет меня по лицу, и я ударяюсь головой об дверь. — Сказал же, чтобы не вякала, давалка!
В ушах гудит, звенит, и я вдруг понимаю, что никто не услышит. В кафе орет музыка, из прохожих — никого, да и кто попрется в темный проулок на просьбы о помощи? Жить всем хочется…
Но и смириться я не могу, хоть и говорят, что, когда бесполезно сопротивляться — стоит потерпеть, и не злить мучителя. Но… не могу! Стараюсь дотянуться до лица насильника, чтобы расцарапать его, глаза выцарапать, но он заламывает мои руки, и в правом плече щелкает. Будто замок закрылся.
— Какие шортики, — бормочет урод, и тянет за пояс. Стягивает, но я пинаюсь, стараюсь оттолкнуть. Плачу в голос, зову.
Хоть кто-нибудь… помогите мне!
А мои удары для чудовища — ничто, будто и не чувствует.
— Рот закрой, шалава, — снова бьет меня по лицу насильник, но я продолжаю кричать. И плакать. Кажется, кровавыми слезами. Монстр выругался, и ударил меня еще раз. В грудь.
Крик замирает в горле, и я задыхаюсь. Хватаю холодный воздух ртом, но вдохнуть не получается, словно я — рыба, выброшенная на берег погибшего моря. Сползаю на грязный снег, и на меня наваливается чудовище. Набрасывается, задирает топ, раздирает кожу.
И я забываю, как дышать. И как жить.
… — Ах ты падаль…сдохнешь… получай, мразь! — словно сквозь густой, непробиваемый туман доносятся до меня мужские выкрики. Глухие звуки борьбы и лязг металла, и снова выкрики.
А мне лишь холодно лежать на снегу. Чудовище больше не лежит на моем теле, чудовище бьется с кем-то неподалеку — с таким-же чудовищем, или с рыцарем?
Не важно. Главное, я хоть немного могу вдохнуть стылый, но такой сладкий воздух.
Он успел?
Упираюсь руками в грязный снег, но рук не чувствую. Их пронзают тонкие иглы боли. С трудом опираюсь на них, и сажусь: шорты разорваны, словно их кромсали, но еще каким-то чудом держатся на мне.
Не успел, значит. Времени не хватило, а мне показалось, что вечность прошла. Жестокая вечность. Даже смирилась в какой-то момент. Подумала, пусть делает, что хочет, лишь бы поскорее оставил меня одну — жить, или замерзать в снегу.
— Марина, — меня укутывают в мое-же пальто, и я еле задавливаю желание закричать. Завизжать, стряхнуть с себя чужие руки. — Не нужно было выходить на улицу одной. Ночью! Нужно было сказать, я бы постоял рядом… мне теперь голову открутит!
Мужчина — Антон, кажется — приподнимает меня с земли, хочет на руки поднять, но… я сама. Не так уж сильно я и пострадала, идти могу. Или мне только кажется, что я почти цела? Мой спаситель бурчит себе под нос, что ему теперь отвечать перед Андреем.
— Спасибо, — хрипло выдавливаю я, и не узнаю свой голос. Так орала, что теперь горло болит, царапает изнутри, трет наждачной бумагой. — Я скажу Андрею, что это моя вина, ведь так и есть. Подышать вышла. А… где он?
— Убежал. Я бы догнал, но…
Но меня-клушу бросать побоялся.
— Едем в полицию, — попросила я. — Я, правда, не видела его лица, но вдруг найдут. Вон машина стоит, видеорегистратор…
— Сами найдем, садитесь в машину.
Устраиваюсь на заднем сидении, пачкаю бежевую обивку грязью, которая налипла на пальто. И, наконец-то, вижу все: на голых до середины бедер ногах начинают наливаться синяки, на запястья вообще глядеть страшно. Ногти обломаны, в болячках, но я жива и относительно цела. И это главное!
— Андрей… — заговариваю я, но Антон меня перебивает.
— Я написал ему. Он едет домой, по делам уезжал.
Хорошо! Поскорее бы увидеть его!
Прошу Антона оставить меня в одиночестве, клянусь, что не сделаю с собой ничего, и он хмуро кивает. Видит, что я почти в себе уже. Захожу в квартиру, стягиваю с себя униформу и белье, и с отвращением отталкиваю от себя ногой. Затем, превозмогая себя, упаковываю пальто с грязной одеждой в пакет, и отправляю в мусор. Сверху кидаю свои серебряные серьги, и пытаюсь снять кольцо. Яростно дергаю и, наконец, выбрасываю и его.
Чтобы ничего не осталось на память!
Ну где же Андрей?
Нет, хорошо, что нет его. Смыть с себя всю эту грязь! Смыть, и поскорее! Встаю под душ, и теплый поток воды обжигает меня. Возвращает чувствительность замерзшему телу. Делаю воду горячее, и еще горячее, и еще… в кабине уже ничего не видно из-за клубов пара, и я сажусь на пол, не в силах даже гелем воспользоваться.
— С ума сошла! — дверь кабины открывается, и я смутно вижу Андрея.
Заходит в кабину в одежде, шипит от обжигающей воды, выключает ее. Садится рядом со мной на мокрый пол, обнимает, но я лишь знаю, что Андрей сжимает меня. Не чувствую… снова.
— Я в порядке, — говорю я, и слезы снова начинают течь по лицу. — Почти…
— Я его убью! — глухо выдавливает из себя Андрей. — Маленькая моя, обопрись на меня, давай я отнесу тебя…
— Нет! — яростно отвечаю я. — Мне нужно отмыться!
Андрей быстро стягивает с себя одежду, и швыряет ее к раковине. Включает воду, регулирует… холодно.
— Она еле теплая!
— Она нормальная! Это тебе после кипятка кажется, — отвечает мужчина, и начинает мыть меня. Прикасается осторожно, без намека на эротизм.
Меня так мама в детстве мыла — я помню.
— Не ругай Антона, — начинаю я говорить о «самом важном». — Он не виноват. Я вышла на пару минут на улицу, и…
Рассказываю Андрею все, что помню. Он молчит, сидит у моих ног, водит мягкой мочалкой. Мне почему-то ни капельки не стыдно представать перед Андреем в таком виде — избитой, в синяках. Уголок губы побаливает, как и левая щека.
— Я его найду, Марина! Обещаю! И убью!
А я решаю не спорить.
Пусть. Лучше бы в тюрьму, конечно, хотя… нет!
— Сейчас врач приедет, — говорит Андрей, вынося меня из душа. — Осмотрит, и в больницу съездим.
Я пугаюсь, как маленькая. Совсем в неврастеничку превратилась в последнее время, а ведь научилась не бояться, но сейчас я не могу себя контролировать. Я словно обнаженный нерв, словно рана, к которой то лед прикладывают, то огонь.
— Нет, я не хочу в больницу! Андрей, у меня лишь пара ссадин!
— Не пара. Вдруг сотрясение… не капризничай! — Андрей прижимается губами к моему виску.
— Я не капризничаю! — спорю я. — Андрей, знаю, что ты не поверишь, я ведь не врач… но нет у меня никакого сотрясения! Я легким испугом отделалась, а раны заживут,