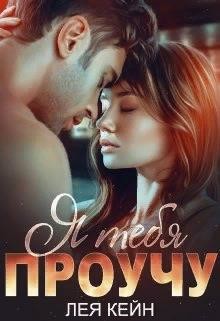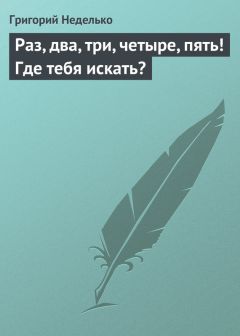получала впервые. Как же мне хотелось поменяться с ней местами и затолкать в ее поганый рот килограмм стекла, которым меня накормил ее Соколов.
— Кто-то сказал «Соколов»? — Семен снова появился из ниоткуда. Прервав унизительный процесс, он положил свой рюкзак на землю и воткнул руки в боки. — Вот он я. Злой, но до ужаса красивый.
Меня отпустили. И если Кукушкина моментально набычилась, то Потапова была готова превратиться в Дюймовочку.
— Сема, — прошлепала она одними губами, словно была готова его сожрать. Ее влюбленные глаза напугали меня, а заурчавший живот — еще больше.
Сема поймал мой взгляд и подмигнул.
И почему этого парня забавляет всякая ситуация?
— Вот знаете, барышни, — начал Семен, потирая руки, — с девчонками я не дерусь. Но, вы меня вынуждаете воспротивиться собственным принципам.
— Что это значит? — рявкнула Кукушкина, отряхивая ногу. — Ты угрожаешь нам?
Кепка Семена поменяла положение — нехороший знак. Исключительно для девочек.
— Не беспокойся, в отличии от вас, я пришел с благими намерениями, — он чихнул. — Правду говорю. В общем, я тут невольно заметил, что вы любители грязевых ванн, я прав?
Старшеклассницы замешкались, а Потапова лихорадочно затрясла головой. Я ошиблась, когда сравнила ее с Рыбиным, она больше походила на Кольку Лагуту. Такая же преданная кому-то и такая же ненормальная.
— Так вот я решил, — продолжал Семен, натягивая на руку хлопчатую перчатку, — что будет неплохо, если я поделюсь с вами, одной из богатейшей различными полезностями, масками. Спорим, вы не даже не догадывались, что коровий навоз обладает чудеснейшими свойствами? Он сделает из вас настоящих красоток. Впрочем, я погляжу работы много, — он достал из мешка густую субстанцию и несколько раз подкинул ее в воздух.
— Позвольте, я сам определю самую нуждающуюся…
Первый «оладушек» попал на блестящую форму Кукушкиной и немного коснулся лица. Завеяло отвратительной вонью.
— Как ты посмел? — опешила Надя. — Только не мне говори, что это навоз!
Семен игриво округлил глаза.
— Ох, конечно же, не буду, — он запнулся. — Но, это действительно был он. Кому еще?
Завизжав, старшеклассницы ринулись в рассыпную.
— Ну куда же вы? Тут на всех хватит!
Я снова коснулась ножа, осознав, что есть более гуманные способы разобраться с обидчиками. Ну, если их так можно назвать.
Мы остались одни. Семен, с испачканными навозом руками и я, с испачканным грязью лицом.
— Как я их? — гордился он, приподняв меня на ноги. — Круто?
Голова кружилась.
— Ты псих, Сема, — улыбнулась я. — Но, ты прикольный псих. Откуда ты вообще здесь взялся?
Уголки его рта приподнялись в самодовольной ухмылке.
— Я обещал защищать тебя, помнишь?
Мое, покрывшееся ледяной коркой сердце, растаяло.
— Спасибо, — выдохнула я, — только больше не опаздывай, пожалуйста.
— Заметано.
В его глазах сверкнула искринка — плохой знак. Для меня.
— Спорим, ты не успеешь убежать, прежде чем я обниму тебя этими перчатками?
Выставив перед собой руки, я сделала несколько шагов назад.
— О, нет, Соколов, даже не думай…
— Что это? — спросила я братца, открыв глаза. Передо мной стояла тарелка с аккуратно нарезанными бутербродами. Сыр и черный хлеб воплощали идеальную форму квадрата. Не трудно было догадаться, что это не Пашкиных рук дело, потому что в противном случае, сей шедевр больше походил на кривую аппликацию человека, страдающего тремором рук.
— Клава принесла, — пояснил братец, на что я округлила глаза.
— Брешешь.
— А вот и нет. Не переживай, там яда нет. Я проверял, — бессовестно издав отрыжку, Паша погладил выпуклый живот.
Нахмурившись, я принялась разглядывать подозрительный завтрак.
— Странно. Это совсем не похоже на нашу тетку. Она стала меньше ругаться, а точнее, вообще перестала. Теперь эти бутерброды… Что с ней случилось?
Пашка развел костлявыми руками.
— Не могу знать. Я люблю есть, а «есть» — любит меня. Так зачем ругаться, когда можно вкусно поштрявкать?
Улыбнувшись, я впервые согласилась с мальцом.
— Ты прав, какая мне разница? — я быстро затолкала пищу в рот. — Ммм, а это действительно вкусно. И никаких приправ. Просто отлично.
Аппетит был хороший, потому что последнее что мне приходилось жевать, была грязь с ног Кукушкиной.
— А я Сашке нож вернул, пока ты спала, — с гордостью признался брат. — Он валялся рядом с твоим матрасом. Можешь меня не благодарить.
Куски хлеба повалились из моего рта.
— Какой нож ты отдал?
— Евонный, — недоумевая, ответил он.
Я судорожно ощупала карман пижамы и с грустью осознала, что Павлик говорил правду.
— Зачем ты это сделал?
— Ну Зося, это же евоный нож! Я видел, как Сашка с ним расхаживал! Ведь, так?
Устало вздохнув, я отставила тарелку в сторону.
— Евонный, евонный… Только ты не должен брать мои вещи без спроса. Если даже они евоные, еешние или ихние, понял?
Братец кивнул и уселся на мой матрас. Вытянув вперед ноги, он продемонстрировал свои грязные пятки и, прилипший к ним мелкий мусор.
— Злата, — протянул он, не решаясь начать, — а почему Сашка больше к нам не заходит?
Я молчаливо пожала плечами.
— Дело во мне, да?
— Нет, Паша. Ты — самая последняя причина, почему Саша так себя ведет.
Малец поджал губы. Он стал задумчивым, и мне это не нравилось.
— Он тебя больше не любит? — поморгал он.
Усмехнувшись, я стала отковыривать мелкие камушки, впившиеся в его пятки, отчего он захихикал.
— Открою тебе один секрет: Саша никогда меня не любил.
Пашка затряс кучерявой головой.
— Неправда. Любил. Я сам видел.
Я по-доброму ткнула его в ногу.
— И что же ты видел, дурень?
— Что любит тебя. Ты когда мимо шла, у него борода тряслась, а ноздри как раздуются, — эмоционально рассказывал Паша. — А еще он краснел до корней волос. Я видел, видел.
Мне было шестнадцать, и это были самые странные признаки любви, о которых мне только приходилось слышать.
— Ерунду не мели, — воспротивилась я. — Не было такого. И вообще, это тебя не касается. Твое дело — слушаться старших и хоть иногда мыть ноги.
Пашины вопросы нервировали меня. Я еще не успела отойти от вчерашней потасовки, так теперь еще приходиться обсуждать Сашу Соколова. Мой язык буквально ломался при произношении этого имени.
— Зось… а это Саша убил нашу Каштанку? — звучало грустно, по-детски, но утвердительно. — Это действительно сделал он?
Я сглотнула.
Все разговоры относительно Каштанки отдавались во мне ноющей болью. Скорбь продолжалась. Прошло слишком мало времени, чтобы перестать скорбеть, а может, это время никогда не наступит. Быть может тот кусочек моего сердца, который всегда принадлежал Каштанке уже никогда не перестанет болеть, как это было с родителями, бабушкой и дедушкой.
Мне было шестнадцать, и мое сердце превратилось в настоящую