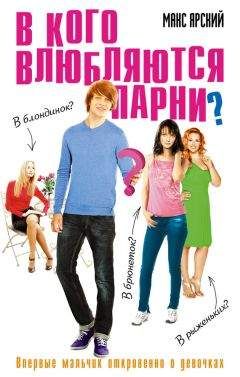А я сейчас приду. Принесу еще пару пледов.
Он выходит из комнаты. Конечно, я сильно стесняюсь! Но, поколебавшись, я все-таки снимаю джинсы и толстовку. Но рубашку оставляю. Она достаточно длинная и теплая, байковая. Хорошо, что бабушка уговорила меня ее надеть. Затем ныряю под одеяло.
Постель ледяная. И я уже не просто дрожу, а отстукиваю зубами дробь. Спустя минуту возвращается Герман с шерстяным покрывалом. Накидывает поверх одеяла, потом начинает раздеваться. Медленно так, расстёгивает на черной джинсовой рубашке пуговицу за пуговицей, при этом неотрывно глядя на меня. Я не выдерживаю, отворачиваюсь к стене и закрываю глаза. Я не слышу шороха от его движений – я слышу лишь неистовый стук своего сердца. Оно бухает как тяжелый молот. Затем свет гаснет, и пульс разгоняется до предела. Боже, я не выдержу…
А когда чувствую за спиной, что Герман ложится в кровать, буквально вытягиваюсь в струнку, звенящую от напряжения. Но он лишь целует меня в макушку, тихо шепчет: «Нежных снов, Лена» и… всё. Правда, и этого скромного поцелуя хватает, чтобы на руках и на загривке волоски встали дыбом.
Несколько минут я еще лежу, едва дыша, не шевелясь, со страхом и каким-то томительным волнением ожидая, что Герман меня коснется. Мне и хочется его прикосновений, и страшно. Но ничего не происходит, и я потихоньку успокаиваюсь. Согреваюсь и незаметно засыпаю. А пробуждаюсь первой.
Кажется, всего на миг глаза сомкнула, но уже утро и комната залита солнцем. Выныривать из-под одеяла не хочется. Я осторожно поворачиваюсь к Герману. Он спит, лежа на животе и заложив руки под подушку. Лицо его кажется сейчас таким безмятежным и расслабленным. И таким родным. Привстав на локте, я наклоняюсь к нему. Смотрю на него, любуюсь, пока можно вот так, вблизи, в открытую его разглядывать. И запоминать. Крохотную черную точку-родинку на виске, идеальные темные брови, губы… Губы у Германа такие мягкие, чувственные…
Теперь могу сказать себе откровенно: я люблю его. Я так сильно его люблю, что в груди щемит. И не представляю, если честно, как буду, когда он уедет. Стоит лишь подумать об этом, и такая тоска сжимает сердце.
На силу отгоняю тяжелые мысли. Говорю себе, главное – сейчас я счастлива. Всё остальное – потом.
И тут Герман открывает глаза. А у меня ощущение, будто он застал меня врасплох. Непроизвольно отпрянув, я откидываюсь на спину, а лицо вообще поворачиваю к стене.
– Стой, – приподнимается он. – Ну, стой же.
Высвобождает одну руку из-под подушки, обхватывает меня за плечи, тянет к себе.
– Давай еще поспим немного, – говорю я, не сдвигаясь с места. И для убедительности закрываю глаза.
Спать мне, конечно же, не хочется, а теперь – тем более. Просто мне ужасно неловко, что я так откровенно его рассматривала. Подумает, что я какая-нибудь одержимая влюбленная дурочка.
А еще боюсь, что у меня дыхание после сна несвежее. Сама себя не чувствую, но вдруг? Лучше бы я, чем так пялиться на него, потихоньку сходила зубы почистила.
Но Герман придвигается ближе, а затем и вовсе оказывается сверху, нависая надо мной. Смотрит на меня, а у самого глаза смеются.
– Попалась, – говорит в шутку. И я подмечаю, что у него-то как раз все хорошо с дыханием. И еще крепче сжимаю губы.
– Доброе утро, Лена.
Не дожидаясь ответа, он наклоняется, целует меня в кончик носа, потом в скулу, в уголок рта. Затем покрывает легкими поцелуями все лицо. И я, конечно, млею от удовольствия. Молчу, но улыбаюсь.
Герман скатывается с меня на бок и, подперев голову рукой, разглядывает меня так же, как я его разглядывала пять минут назад.
– Как спалось?
Натянув одеяло к носу, отвечаю:
– Хорошо.
Наверное, он разгадал мою уловку, потому что затем говорит:
– От тебя так сладко пахнет. Молочком. Как от младенца.
– Скажешь тоже, – смущаюсь я.
– Дурею просто от твоего запаха…
Герман снова наклоняется и целует, теперь уже в губы. Сначала нежно, затем все настойчивее, нетерпеливее, жарче. Я тоже распаляюсь вместе с ним, быстро забыв смущение. Чувствую, как его пальцы хаотично перебирают мои волосы, слышу его сбившееся дыхание, ощущаю, как сильно и часто колотится его сердце. Или мое?
Прерывает поцелуй он так внезапно и резко, что я ничего не успеваю понять. Просто вдруг с рваным вздохом откидывается на спину. Я распахиваю глаза и недоуменно смотрю на него.
А он лежит рядом, словно окаменев. Закинул на лицо согнутую в локте руку, прикрыв ею глаза, и губы сжал так, что желваки напряглись. Только грудь его вздымается тяжело и дыхание прерывистое и шумное. Но вскоре и оно выравнивается.
Он меня бережет, догадываюсь я. И это меня почему-то так трогает, что я чуть не плачу.
– Ты такой хороший, – в избытке чувств шепчу я. Громче сказать не получается – горло перехватило. Я вообще в последнее время стала очень сентиментальной. Чуть что – сразу в слезы.
Он убирает с лица руку. Скосив взгляд, смотрит на меня очень серьезно.
– Да какой там хороший, – произносит с тяжелым вздохом.
– Ты – самый лучший, Герман, – настаиваю я. – Ты столько делаешь для меня...
– Да уж… Знаешь, почему эта дура Соня Шумилова с тобой поссорилась? Потому что я… – он замолкает, закусив нижнюю губу.
Я вижу, что ему трудно признаться. И, наверное, даже не хочу знать то, что он собирается сказать. Не хочу, чтобы что-то омрачило это чудесное утро. Или даже разрушило. Но молчу. И, поколебавшись, он продолжает:
– В общем, – не глядя на меня, глухо произносит Герман, – это из-за меня вы с ней поссорились. В смысле, я к этому руку приложил, хоть изначально и не собирался. Ямпольский тогда типа подкатывал к Шумиловой. Чтобы вас рассорить. Его подослали наши, зная, что Шумилова в него влюблена. Он там плел ей какую-то пургу. А она сидела, как дура, развесив уши. Но, когда он попросил ее прекратить с тобой общаться, она отказалась. Залепетала, что она так поступить с тобой не может. Ямпольский психанул, мол, она – тупая, даже не въезжает ни во что, в смысле, не понимает, что от нее хотят. А я…
Герман снова замолкает на несколько секунд. Собирается с мыслями, а затем на одном дыхании произносит:
– А я сказал ему, что он сам тупой. Если ему так надо было вас рассорить, то стоило подкатывать