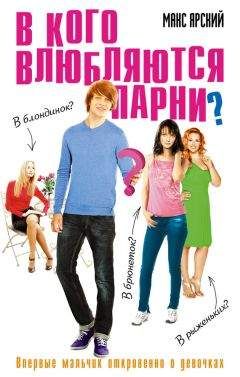к тебе. И тогда бы даже просить Шумилову ни о чем не пришлось. Вот он и стал к тебе лезть, ну и с три короба нагородил про тебя Шумиловой.
Герман тяжело выдыхает. Поворачивается ко мне и смотрит мрачно, даже обреченно, будто ждет от меня самого плохого. А я вспоминаю, как кричала на меня Сонька. Как обзывала предательницей. Как легко она всему поверила и как запросто растоптала нашу дружбу.
– Зачем ты это сделал? – выдавливаю из себя. В груди как будто образовался огромный ледяной ком.
Взгляд его становится еще более виноватым.
– Это были эмоции.
– Какие эмоции? О чем ты? – не понимаю я.
Он молчит, терзает нижнюю губу. Потом вдруг поворачивается ко мне всем корпусом, порывисто придвигается.
– Лен, я этого правда не хотел. На Шумилову мне вообще плевать было. Ляпнул так со зла. Ты даже не представляешь, как сильно я об этом пожалел. И сейчас жалею. Прости меня…
– Со зла? – переспрашиваю я. – Ты на меня злился? За что?
Герман смотрит на меня так, будто ему стыдно. И отвечать ему явно не хочется. Тем не менее отвечает:
– Думаю, что я тебя ревновал.
– К кому? – изумляюсь я.
– К кому, – хмыкнув, повторяет он. – К Чернышову. Ты же с ним так носилась… ах, Петя, мой Петя… Ну а в тот день наши вообще сказали, что видели, как вы накануне с ним целовались возле школы. А Черный это подтвердил.
– Но этого не было!
– Да понятно. Но тогда эмоции взяли верх. Хотя это не оправдание.
– Но мы же тогда с тобой не… да мы даже не общались!
– Ну и что. Мне ты нравилась. Я ревновал и злился. Теперь я бы так с тобой ни за что не поступил. Да и тогда тоже почти сразу же пожалел. Я потом сказал Шумиловой, что всё это гон. Думал, что вы помиритесь… Прости меня, Лена.
Не знаю, как бы я поступила в другой раз, при других обстоятельствах. Может, и позволила бы, как говорит Герман, эмоциям взять верх. Да, скорее всего обиделась бы, обвиняла бы его во всех грехах. Но сейчас у меня совсем другие приоритеты. Я просто не хочу тратить время на ссоры и обиды. Не хочу упиваться страданиями. К тому же он и сам себя вон как винит. И искренность его я тоже ценю. Он смотрит сейчас так пронзительно, что все внутри переворачивается.
– Спасибо, что рассказал мне правду, – после недолгой паузы говорю ему как можно спокойнее.
– И ты не… И всё?
Герман слегка ошарашен, по-моему.
– А ты хочешь, чтобы я устроила тебе скандал? Я могу! – заявляю я, пытаясь перевести этот тяжелый разговор в шутку.
Напряженный взгляд его постепенно смягчается. Наконец он улыбается тоже:
– Ну, если без мордобоя, то я потерплю…
До полудня мы бродим с Германом по берегу озера. Я слегка мерзну, потому что погода чуть подпортилась. Небо затянуло сизыми облаками, солнце скрылось. Но сидеть в доме не хочу. Когда еще я здесь побываю?
Байкал сегодня тоже неспокойный. Вода, вчера такая синяя, искрящаяся, сейчас кажется темно-свинцовой. То и дело на берег набегают с рокочущим шумом волны, оставляя на камнях белоснежные клочья пены. Но, боже, какой же тут воздух! Я им просто надышаться не могу.
Герман теперь, после утренних откровений, задумчив и молчалив. Он словно ушел в себя, глубоко погрузившись в свои мысли. Я не очень люблю, когда он такой. Потому что в эти моменты, хоть они и редки, возникает ощущение, что он отдалился, и мне невольно становится грустно. Правда сейчас такого чувства нет, может, потому что Герман держит меня за руку. Но все равно мне хочется поговорить.
– О чем ты сейчас думаешь? – нарушаю я в конце концов молчание.
– Что? – переспрашивает Герман, не сразу меня понимая.
Я повторяю вопрос.
– О тебе, конечно, – отвечает с усмешкой.
– Правда? И что же такого ты обо мне думал? Судя по выражению лица, что-то не особо хорошее.
– И какое же у меня было выражение? – улыбается он.
– Вот такое. – Я плотно сжимаю губы и сдвигаю брови к самой переносице. Себя я, конечно, не вижу, но, по моим внутренним ощущениям, мое лицо должно выглядеть сурово и грозно.
Но Германа это только веселит. Он коротко смеется, глядя на меня. Потом выпускает мою руку, но лишь затем, чтобы приобнять меня за плечи. Так мы и идем в обнимку дальше. В городе я бы так не решилась, а здесь – запросто.
– А можно вопрос? Не очень скромный…
– Тебе все можно, – благодушно разрешает он.
– А когда я тебе стала нравиться? Ты ведь меня раньше в упор не замечал… даже не здоровался. Потом… мы ругались только, ну, когда вся та история с Дэном случилась… Я думала, ты, как и все, плохо ко мне относишься, а тут вдруг выясняется, что ты ревновал…
– Ну, допустим, я с тобой никогда не ругался. Это ты у нас грозно махала шашкой, – говорит он, смеясь. – И плохо к тебе уж точно я никогда не относился. Но ты права, я как-то раньше не особо обращал на тебя внимание. Ну есть такая Лена Третьякова и есть. Да я не только тебя не замечал, а вообще… Я просто изнывал здесь от скуки, ну после того, как приехал из Калгари. Постоянно хотел назад вернуться. Школу нашу вообще всерьез не воспринимал. Учителей – тоже. Про класс – вообще молчу. И тут вдруг ты, борец за справедливость, выступила в одиночку против всех… Не побоялась. Это вышло круто. То есть я предполагал, что ты захочешь рассказать правду, но почему-то думал, что просто пойдешь и нажалуешься по-тихому. А ты вот так, при всех, в открытую… Я, может, тогда и не сразу понял, что к чему, но изначально ты меня именно этим зацепила… Ну и к тому же ты очень красивая и очень хорошая, – добавил он с обезоруживающей улыбкой.
– А я тогда на тебя очень злилась. И за Жуковского, и за англичанку, и за Петьку. Прямо врагом номер один своим считала…
– Понимаю, – кивнув, невесело усмехается Герман. – Есть за что. Хорошо, что ты не злопамятная