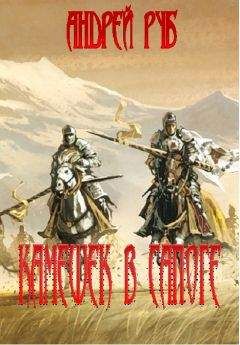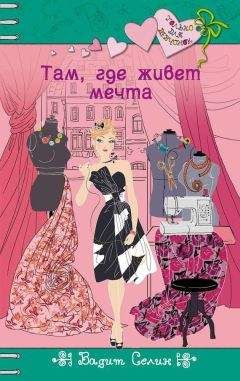– Довольно! – взмолился Темлюков. – Не могу.
Заметьте, уважаемый заказчик, художника надо держать голодным, как дворового пса. Если станете меня закармливать, не видать вам Центра искусств.
– Учтем, Константин Иванович. Прошу в кабинет, подегустируем из моего бара.
Темлюков, разглядывая библиотеку Николая Лукьяновича, к своему удивлению, не обнаружил классиков марксизма, о чем не без ехидства заметил хозяину.
– Все есть. И полное собрание Владимира Ильича, и «Малая Земля» Леонида Ильича, и Маркс, и краткая биография Иосифа Виссарионовича, хоть это теперь и не слишком модно. Все есть. Только в директорском кабинете правления. А уж дома, не обессудьте, не держу, – Клыков развел руками. Мужчины посмеялись. – Завтра прошу ко мне в служебный кабинет. Там и классиков увидите, и на аванс подпись получите. Дружба дружбой, а денежки врозь. Мы с Надей вас проводим.
Надя собрала гостю с собой корзинку с закусками и, как ни противился Темлюков, настояла, чтоб он взял гостинцы.
– Утром мне спасибо скажете.
До клуба добрались за пять минут. Солнце клонилось к закату. Темная громада новостройки возвышалась казенно и неуютно. Художник распрощался с супругами и вошел в пустынное здание. Шаги гулко отдавались по этажам.
Глаза привыкали к полумраку. Двадцать пять метров стены. Белый лист". Ничье пространство. Из него надо построить свой мир. Константин Иванович давно определил для себя, что акт творчества есть акт безумия. Только из безумия возникает подсознательный хаос, мозгом и мастерством художника переводимый в образы. Если безумие не присутствует, не родится тайна. Произведение без тайны – простая иллюстрация. Мера безумия – это мера таланта.
Артист – наркоман. Его наркотик заключен в состоянии безумия. Есть разные слова – муза, вдохновение, озарение. Все это понятия одного и того же значения, когда подсознание удается вытянуть из неведомых темных глубин и облечь в реальные, понятные уму формы.
Фреской Темлюков увлекся два года назад. Теперь ему казалось, что он шел к ней всю жизнь. В своей мастерской, покрывая разными составами извести небольшие доски, он изучал, как краска проникает в поры, как меняет цвет. Он сидел в библиотеках, пытаясь сыскать старые рецепты штукатурки, составы пигментов. Несколько старинных комбинаций художнику удалось восстановить, кое-что он изобрел сам. Заказ Клыкова Темлюков воспринял как Божий знак. Если бы Николай Лукьянович попросил его написать фреску бесплатно, он не раздумывая бы взялся за эту работу.
Ело слышный шорох прервал мысль. Темлюков взглянул в дальний угол, там на козлах, обхватив руками коленки, сидела Шура и смотрела на него.
– Ты кто? Что здесь делаешь? – вскочил Темлюков.
– Я Шура, ваша помощница. Меня вызвал Клыков, – тихо и нежно ответила девушка.
– Извини, ради Бога, мы совсем забыли о тебе.
Точно, Клыков послал за тобой шофера. Ради Бога, прости… Есть хочешь?
– Немного. Ничего, до дома дотерплю.
Темлюков вспомнил о корзине с закусками, что дала ему Надя:
– У меня полно вкусных вещей. Иди сюда. Сейчас разберем сундук, там электрический чайник. Сахар, чай, кофе.
Шура потянулась и спрыгнула с козел. В сундуке художника оказалось, кроме чайника и жестяных кружек, много самых невероятных вещей. Дуре очень хотелось все разглядеть, но она взяла чайник и пошла за водой. Электрические розетки были под током, но верхний свет еще не смонтировали. Шура быстро принялась за дело. Она включила чайник, соорудила из козел стол. Нашла в монтерской оставленные электриком свечи. Свечам Темлюков обрадовался как ребенок. Художник любил свет от живого огня. Подумав, как застелить самодельный стол, Шура скинула косынку и постелила ее вместо скатерти. Медные кудри девушки рассыпались широкой волной. Константин Иванович невольно залюбовался.
– Господи, какая ты красивая! Та Шура весной и эта – две разные девушки.
– Ну и скажете, – слабо возразила девушка, раскладывая на столе закуски. – Ой, вкуснятина! Откуда у вас все?
– Супруга директора собрала. А я, шляпа, еще отказывался брать. Давай ешь.
– Я одна есть не буду.
– Побойся Бога. Я из-за стола.
– Одна есть не буду, – упрямо повторила Шура.
Зашумел чайник, и пустое фойе стало по-домашнему уютным. Темлюкову сделалось тепло на душе, и он с благодарностью посмотрел на Шуру:
– Хорошо. Выпью с тобой чаю. Может, тебе кофе?
– Без молока не могу, горький.
Константин Иванович улыбнулся. Они пили чай.
Шура старалась есть деликатно, отламывая кулебяку маленькими кусочками.
Темлюков поглядывал, как от пламени свечей отливают бронзой Шурины волосы, как вычерчивается ее прямой носик и сверкают темные зеленые глаза.
«Вот и натура», – подумал художник.
– Пожалуй, я тебя нарисую.
– Меня? Было бы чего рисовать. Там в Москве у вас городские. Они красивые и одеты…
– Не кокетничай. Знаешь небось, что хороша?
Шура не ответила, только бросила на Темлюкова горящий взгляд: не нуждаюсь, мол, в ваших комплиментах.
Константин Иванович поначалу, когда обнаружил в клубе Шуру, пришел в некоторое раздражение.
Ему хотелось побыть наедине с белой стеной. Хотелось вызвать творческий настрой. Подумать о будущей работе. Но, будучи от природы добряком, чувствуя вину, что забыл о девчонке, виду не показал. А теперь, когда безжизненное фойе задышало, ожило, засветилось и вся пустая громада дома сделалась свойской и понятной, Темлюков был очень доволен присутствием Шуры. Ведь чудо сотворила она.
– Ты не злишься, что тебя так долго заставили тут сидеть одной?
– Как я могу злиться? Я вас очень ждала.
– Ты меня ждала?
– Очень!
– Почему? Ты же меня совсем не знаешь.
Шура смело поглядела в глаза Константина Ивановича:
– Тут такая тоска. И вы, знаменитый художник из Москвы. А я ваша помощница.
– Ну уж и знаменитый! – рассмеялся Темлюков. – С чего ты взяла?
– Николай Лукьянович другого бы не привез.
Больно за свой клуб переживает. Когда работали, каждый день по три раза наведывался.
– Может, тебя и живопись интересует?
Темлюков спросил как бы между прочим, но Шура почувствовала в вопросе художника живой интерес.
– Еще как. Я в нашей библиотеке все книжки про художников прочитала.
– И много в вашей библиотеке таких книжек?
– Всего две. Но такие толщенные.
Константина Ивановича немного рассмешило, что его считают здесь знаменитым, но в глубине души было приятно, что его ждали, о нем думали.
– Ну и что же это за две книжки?
– Одна про Репина. «Далекое, близкое». Там Репин сам про себя все пишет. Эта книжка ничего, понятная. А другая про Микеланджело. Там понять трудно.