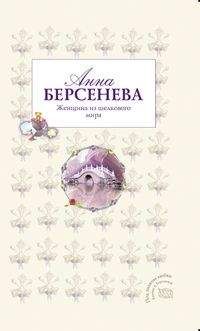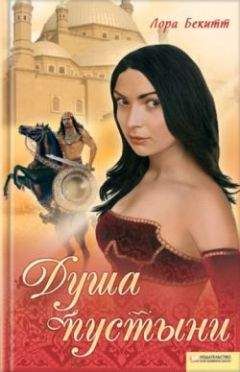— Ты что здесь делаешь? — повторил Тимофей, подходя к нему.
По помятости его лица и рубашки было понятно, что он едет вот этим самым, стоящим сейчас у перрона поездом, и едет уже долго. Об этом же говорили и его замутненные глаза: выдержать такую дорогу насухую, конечно, не представлялось возможным.
— Привет. — Альгердас пожал руку Тимофея. — Да ничего не делаю. — Он собирался сказать, что просто отстал от поезда и вот выясняет, как теперь добраться до Москвы, то есть собирался объяснить все как есть, но что-то его удержало. — Я… — пробормотал он. И уже более внятно произнес: — Живу.
— Где живешь, здесь? — удивился Тимофей. — А зачем?
Это был хороший вопрос! Главное, что ответить на него не представлялось возможным. Альгердас не знал, как назвать то чувство, которое удерживало его здесь, в этих однообразных степях, да еще назвать его постороннему человеку.
— А ты куда едешь? — спросил он вместо ответа.
Не приходилось ожидать, что Тимофей окажется чересчур настойчивым в своем интересе к житью-бытью случайно встреченного знакомого. Как и большинство художников, да и большинство людей, наверное, его по-настоящему интересовало лишь собственное житье-бытье.
— А я площадки выбираю, — забыв свой только что заданный вопрос, с готовностью ответил он. И сразу принялся рассказывать: — Я такой проект зафигачил, типа зашибись. Таких существ изготовил, Толкиен отдыхает. Они у меня по полям будут бегать. Есть тема — от Москвы до Владивостока их запустить. В смысле, перформансы по всему Транссибу устроить. Конечно, на Дальний Восток основная надежда, в Европе-то все застроено, плюнуть негде.
Альгердас кивал, слушая Тимофея, и ожидал только одного: чтобы поезд, стоящий у платформы, поскорее подал какой-нибудь сигнал к отъезду, загудел, что ли.
Странно — ему неприятен был рассказ из той жизни, которой всегда жил он сам и которая никогда его не тяготила. Хотя художник Тимофей был ему понятен весь, во всех своих проявлениях, и сам по себе не вызывал неприязни.
Что-то завершалось в нем, внутренне завершалось прямо сейчас; Альгердас ощущал остроту этих минут, и ему не хотелось в такие минуты слышать о чем-то призрачном, прежнем, облетавшем с него теперь как шелуха.
К счастью, поезд наконец ожил — зафыркал как конь, потом призывно загудел.
— Ну, пока, — торопливо простился Тимофей. — Слушай, — вдруг сообразил он, — у тебя какой телефон? Я тебе, как только бабло под проект найду, сразу отзвоню, поможешь тут с организацией. — Он выудил из кармана своих мешковатых штанов телефон. — Диктуй.
— У меня телефон не работает, — сказал Альгердас. — Я в Балаковке живу, это деревня такая. Там даже телевизор не идет.
— Ну ты даешь! — восхитился Тимофей. — Как, говоришь, эта прекрасная местность называется? Балаковка? Реально нирвана!
Поняв, что от Альгердаса никакой практической пользы не будет, он тут же потерял к нему всякий интерес и бросился к вагону; проводница уже убирала подножку.
«Да, позвонить, — подумал Альгердас. — Со станции надо».
Позвонить надо было маме, ведь он сообщил ей, что возвращается в Москву, и она могла заволноваться, почему он едет так долго. А могла и не заволноваться: он давно приучил ее не беспокоиться о нем. Да она и не имела склонности к такому беспокойству.
Здесь, на станции, телефон все-таки работал, хотя и с перебоями: если Беловодная и отличалась по степени заброшенности от деревни Балаковки, то очень ненамного.
— Лёка! — обрадовалась мама. — Наконец-то! Ты в Москве?
В трубке был слышен гул, играла музыка и доносились характерные звуки, которые всегда бывают у кассы супермаркета. Наверное, у кассы мама сейчас и стояла.
— Еще не доехал, — сказал Альгердас. — Я задержусь немного, мама, не волнуйся.
— Только звони почаще, — ответила она. — Информируй меня, где ты находишься. Ты здоров?
— Здоров. Но звонить почаще не получится. Я путешествую.
— По Китаю? — заинтересовалась мама. — Обязательно мне потом расскажешь! Удивительная, я думаю, страна. Все, Лёкочка, моя очередь подошла. Целую.
Это был обычный разговор. Да ведь Альгердас и не ожидал, что он будет каким-то особенным. Он с детства привык к тому, что мама относится к людям так, как относится: с доброжелательным и поверхностным вниманием. Ее отношение к нему самому не было в этом смысле исключением, но его это никогда не задевало. Он и сам так относился к людям и считал, что это правильно, потому что удобно.
И что же так изменилось в нем теперь? Он не знал, как назвать эту перемену. Он только понимал, когда она произошла в нем и из-за чего, но старался об этом не думать. Тяжело было об этом думать, и он не чувствовал у себя внутри никакой опоры, которая позволяла бы выдержать эту тяжесть.
Альгердасу повезло, что родственник бабы Кати привез его сюда, на Беловодную, как раз накануне заезда в Балаковку автолавки. Но автолавка должна была отправиться туда завтрашним утром, а сейчас был только ранний вечер, и, значит, после закупки продуктов ему предстояло провести еще целую ночь в вокзальном здании, один вид которого вызывал у него неприятные воспоминания и вообще глухую тоску.
Приходили и уходили поезда, в тесную комнату отправления-ожидания входили шумные люди, потом уходили… Их появление и исчезновение было так же бессмысленно, как лечение лишая оконной слезой. И уже через два часа, проведенных в этом помещении, собственное существование стало казаться Альгердасу таким же бессмысленным. От этого его охватил не ужас даже, а одно лишь тоскливое безразличие.
Он смотрел в тусклое, словно задымленное окошко, из которого видно было железнодорожное полотно, и думал о маме.
Она всегда относилась к нему так. Как — так? Долгое время Альгердас не понимал, в чем отличие ее отношения к нему от того отношения, которое он видел у мам своих друзей. Но он всегда чувствовал это отличие, и оно всегда ему нравилось, с самого детства. Потому что его мама, например, никогда не орала на весь двор из окошка в самый разгар игры в футбол: «Деточка, зайди домой, пододень теплые штанишки, а то простудишься!» — как свободно могла заорать мамаша жирного Генки из второго подъезда.
И толстым Альгердас, кстати, никогда не был, потому что мама не пичкала его полезной манной кашкой, да и ничем не пичкала — она вообще не придавала большого значения приготовлению пищи, не священнодействовала на кухне и не возражала, если сын готовил что-нибудь сам, и он не прочь был самостоятельно что-нибудь приготовить, а еще лучше просто разогреть какой-нибудь полуфабрикат из «Кулинарии».