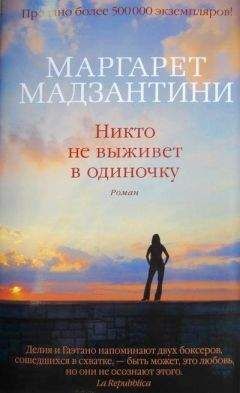— Ммм, — промычала я, сунув кулак в рот, чтобы не рассмеяться. — Я не возражаю против чуточки лишнего веса. Особенно если его распределить.
— Господи, что это, зрелость? Обычно, если я говорю, что ты набрала унцию, ты сходишь с ума!
Ты почистил зубы и лег в постель. Ты подобрался к разгадке тайны, но лишь побарабанил одной рукой по одеялу, а другую положил на мою набухшую грудь и пробормотал:
— Может, ты и права. Немного больше Евы очень сексуально. — Уронив книгу на пол, ты повернулся ко мне и вопросительно приподнял бровь. — Ты в настроении?
— Ммм, — снова промычала я, соглашаясь.
— И соски набухли, — заметил ты, водя по ним носом. — Скоро менструация? Похоже на задержку.
Твоя голова замерла между моими грудями. Ты отпрянул и посмотрел мне в глаза так серьезно, как,
пожалуй, никогда не смотрел. И побледнел.
Мое сердце упало. Я поняла, что ситуация гораздо хуже, чем я предполагала.
— И когда ты планировала сказать мне? — холодно спросил ты.
— Скоро. На самом деле еще несколько недель назад. Просто никак не могла выбрать подходящий момент.
— Понятно почему. Ты надеялась преподнести это как случайность?
— Нет, это не было случайностью.
— Мне казалось, что мы все обсудили.
— Обсуждения как раз и не было. Ты разразился тирадой. Ты не пожелал меня выслушать.
—И ты пошла напролом... решила поставить меня перед фактом... просто... взяла за горло. Как будто я тут ни при чем.
— Ты тут при всем. Но я была права, а ты ошибался.
Я не дрогнула. Как ты когда-то сказал, нас было двое, а ты — один.
— Это самый дерзкий... самый бесцеремонный из всех твоих поступков.
— Да, наверное.
— Теперь, когда мое мнение больше не имеет значения, не хочешь ли объясниться? Я слушаю.
Не похоже, что ты готов был слушать.
— Я должна кое-что выяснить.
— И что же? Как далеко можно меня загнать, чтобы я дал сдачи?
—О... — Я решила не извиняться за выбранное слово. — О моей душе.
— В твоей вселенной есть кто-нибудь кроме тебя?
Я склонила голову.
— Хотелось бы.
— А как же Кевин?
— Что Кевин?
— Ему будет тяжело.
— Я где-то читала, что у других детей бывают братья и сестры.
— Ева, не мошенничай. Он привык к безраздельному вниманию.
— Еще один способ сказать, что он избалован. Или стал бы избалованным. Это, вероятно, самое лучшее, что может с ним случиться.
— Почему-то мне кажется, что он так не думает.
Я помолчала. Уже минут пять мы говорили только о нашем сыне.
— Может, это будет полезно и тебе. Нам.
— Только эмоциональные тетушки думают, что новый ребенок может сцементировать непрочный брак. Глупее не придумаешь!
— У нас непрочный брак?
— Ты только что пошатнула его, — выпалил ты и отвернулся j от меня.
Я выключила свет, скользнула на подушку. Мы не касались друг друга. Я начала плакать, а когда ты обнял меня, заплакала еще сильней.
— Эй, неужели ты думаешь?.. Ты ждала так долго, чтобы было слишком поздно для?.. Ты действительно думала, что я попрошу тебя это сделать? С нашим собственным ребенком?
Я шмыгнула носом.
— Конечно нет.
Однако, когда я успокоилась, ты посуровел.
— Послушай, я привыкну, потому что мне деваться некуда. Но, Ева, тебе сорок пять. Обещай, что ты сделаешь тот тест.
«Тот тест» имел смысл, только если мы собирались исключить неблагоприятный вариант. С нашим собственным ребенком. Неудивительно, что я тянула так долго, как только могла.
Я не сделала тест. О, я сказала тебе, что сделала. Найденный мною новый гинеколог, очаровательная женщина, предложила его сделать, но, не в пример доктору Райнстайн, она не считала всех беременных женщин общественной собственностью и не стала настаивать. Правда, она выразила надежду, что я готова любить и воспитывать, кто бы, то есть что бы ни родилось. Я сказала,
что не вижу романтики в воспитании ребенка-инвалида, однако очень серьезно выбираю, что и кого любить. Поэтому я хочу довериться. Впервые слепо поверить — я не сказала в жизнь или в судьбу или в Бога — в себя.
Мы ни разу не усомнились в том, что наш второй ребенок — мой. Поэтому ты не демонстрировал ни капельки той собственнической властности, которой терроризировал мою беременность с Кевином. Я сама таскала покупки. Ты не хмурился, когда я выпивала бокал красного вина, а я позволяла себе вино в маленьких, разумных количествах. Я ужесточила свои тренировки, включая бег, гимнастику и даже немного сквоша. Мы не обсуждали это, но явно прекрасно понимали друг друга. Все, что происходило с сидящим во мне комком, было моим личным делом. И мне это нравилось.
Кевин уже почуял вероломство. Он шарахался от меня больше обычного, угрюмо поглядывал исподлобья, пил сок крохотными глоточками, как будто пробовал мышьяк, и настороженно прощупывал любую оставленную мною еду, часто разделяя ее на составные части и размазывая по тарелке; может, искал битое стекло. Он не подпускал меня к своим тетрадкам, защищая их, как заключенный защищает свои письма с детальным описанием зверств тюремщиков, предназначенные для тайной пересылки в «Международную амнистию».
Кто-то должен был рассказать ему, и скоро; мой живот уже невозможно было скрывать. Я предложила воспользоваться шансом и в общих чертах рассказать ему о сексе. Ты не согласился и предложил: просто скажи, что ты беременна. Кевину не обязательно знать, как это туда попало. Ему только семь лет. Не должны ли мы сохранить его невинность еще хоть на какое-то время? Я возразила, что это весьма отсталое определение невинности, эквивалентное сексуальному невежеству со свободой от греха, а недооценка сексуальной осведомленности собственного ребенка — старейшая из существующих ошибок.
И действительно, едва я подняла этот вопрос за ужином, как Кевин нетерпеливо прервал меня:
— Хочешь поговорить о траханье?
Я оказалась права. Второклассники уже не те, что прежде.
— Лучше называть это сексом, Кевин. То, другое слово оскорбительно для некоторых людей.