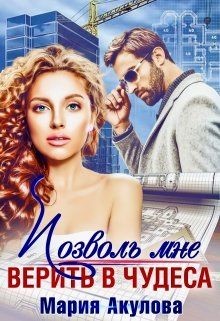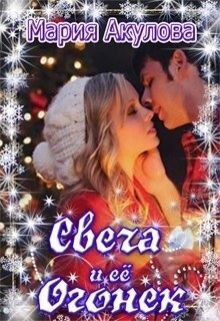— Не надо так злиться, мамочка. Совсем чушь несешь…
— Чушь…
Зинаида повторила, не веря своим ушам. Она ей правду, а Анфиса… Чушь… И ведь так намного легче жить, наверное. Все, что не нравится — то чушь. А то, что хорошо на душу ложится — то правда… Хотя есть ли там еще душа? Большой вопрос.
— Да, чушь, мамочка. Чушь. А на правду тебе и ответить нечего. Собиралась за моей спиной все провернуть? Не ври — собиралась. Думала обо мне хоть секунду, когда решения свои принимала? Нет, конечно. Кто я для тебя? Никто и звать меня никак. Только и можешь, что звонить, да обвинять во всех смертных грехах. Еще и дочь против меня настраиваешь, наверное…
— Постыдилась бы… Анфиса…
— А мне-то чего стыдиться, мама? Мне-то чего? Если бы я вас не подтолкнула — так бы и гнили в доме. Закончилось бы тем, что крыша обвалилась или угорели из-за протечки. А так хоть по-человечески поживете. Ане вон друзей не стыдно будет домой позвать, а то еще я не могла, помню… Нищета такая… — Зинаида не знала, откуда в дочери столько желчи, но талант — делать невыносимо больно — она определенно имела.
— Ты когда дочери в последний раз деньги-то отправляла, Анфиса? Нищета… Да она в переходах на гитаре играть должна, чтобы…
— А ничего, мама. Ничего. Я тоже, знаешь ли, в восемнадцать уже взрослым человеком была. Самостоятельным и…
— Ты… Самостоятельным… — Зинаида произнесла с грустной улыбкой, качая головой… — Я твою взрослость и самостоятельность хорошо помню. Только и хватило, что найти какого-то прохвоста и…
— Оскорблять меня не смей. И осуждать тоже. Я… Я за свои ошибки сама расплачиваюсь. А ты даже не знаешь, как мне сложно было…
— Зато нам легко, дочка. Тебе сложно, а нам легко…
— И не ёрничай. И вообще…
— Что вообще, Анфиса? Ты хотя бы извиниться могла. Просто извиниться. Я уж не говорю о том, чтобы предупредить. На посоветоваться я даже не надеюсь. А ты… Неужели тебе действительно все равно, что мы с Аней чувствовали, что пережили? Неужели… Неужели тебе совершенно без разницы, живы ли? Здоровы…
Анфиса снова рассмеялась, Зинаида на секунду зажмурилась, прекрасно понимая, что долго еще не забудет этот смех в ответ на отчаянный призыв. Призыв, который она делала, переступив через гордость, проглотив все сказанное.
— Даже не пытайся, мама. Как имущественные интриги за моей спиной крутить — так здоровья хватает, а теперь… Ну-ну… Признай просто, что яблочко… Недалеко от яблоньки упало. Признай и смирись. А то в моем глазу соринка тебе видится, а в своем бревно — нет…
— Бревно, значит.
Только Анфисе не нужны были ни призывы, ни шаги навстречу. Она себе давно все объяснила. Она себя ни в чем повинной не считала. Она… Жила, позабыв об угрызениях совести. О матери. О дочери. Только о себе одной не позабыв.
— Подумай хорошо, мама. И пойми, что я была права. Я вам помогла решиться. И себе тоже помогла. Ты же не спрашиваешь, как у меня дела. Нужно ли мне что-то. Может помощь нужна. Может с деньгами проблема… Может я не просто так вам не отправляю, может у самой нет… Может не зря дочка в переходе-то трудится. Вот матери поможет… Взрослая уже, слава богу…
И снова Анфиса вывернула на нужную себе тропку, а Зинаида и не знала, что ответить… Только рот открыла и захлопнула, как рыба…
— Ей тебе спасибо сказать не за что… Ишь ты… Только попробуй с нее что-то такое попросить, я тебя…
— Ты не заговаривайся, мама, — и если раньше тон Анфисы еще можно было считать человечным, то теперь голос будто сталью налился. — Дочь-то моя, в конце концов. Не захотела бы — рожать не стала. За это она мне вечно должна спасибо говорить…
И снова ответить Зинаиде было нечего. Но только не из-за правдивости, а из-за наглости.
— Ладно. Все. Мне бежать надо. Я потом как-то позвоню… — После несколькосекундной паузы голос Анфисы снова стал куда более легкомысленным, а вот к Зинаиде дар речи так и не вернулся. — Когда у нашей кудряшки День рождения, напомни?
— Ты же рожала… — получилось тише, чем Зинаиде хотелось. И совсем не язвительно, как тоже хотелось. Возможно, впервые в жизни хотелось.
Анфиса не восприняла, как укол. Рассмеялась. Зинаида будто увидела, как дочь при этом легкомысленно отмахивается.
— Сколько лет назад это было-то? Стольким голова забита, что не грех и забыть. А ты подсказала бы, иначе… Иначе подарок не отправлю, сама виновата будешь…
— Только игрушку мягкую не отправляй. Год-то хоть помнишь…
И снова Анфиса ответила смехом, а потом скомкано попрощалась, скинула, не ожидая ответа от матери.
Зинаида же опустила совершенно бессильные руки на колени, глядя сквозь них в какую-то черную дыру. Засасывающую пустоту, апатию, безнадегу…
Что ж за человек-то такой? Что ж за человек?
А она… Что ж за мать, если… Если такого воспитала? Что ж за мать…
Дыхание начало учащаться, та самая пустота расплываться из-за заполняющих глаза слез…
Зинаида запрокинула голову, начиная моргать… Не заслуживает засранка ее слез. Ни ее, ни Аниных. Ни одной слезинки не заслуживает. Как и доброго слова. Ни одного.
И звонить ей не надо было. Высоцкий был прав. Такое не прощают…
— Ба! Ты тут!
Звонкий оклик заставил Зинаиду вздрогнуть и перевести голову в сторону. Заприметить внучку, стоявшую на расстоянии нескольких десятков метров. Зинаида не видела, скорее догадывалась, что Анюта улыбнулась, увидев ее. А еще активно замахала рукой, после чего быстрым шагом направилась к лавке.
Слишком быстрым, пожалуй. Зинаиде пришлось срочно отворачиваться от приближающегося ребенка, украдкой вытирая глаза, чтобы, когда Аня подойдет, повернуться к ней, уже улыбаясь…
— Я пришла к тебе, а там уборка. Спросила, куда подевалась моя ба, мне сказали, что гуляешь… Я сумку с вещами оставила, потом разберем, а сама к тебе…
Аня щебетала, стоя над бабушкой. Немного раскрасневшаяся, какая-то… Будто пышущая счастьем… Искрящаяся им… Из глаз, из щек, из губ… Стекающим по каждой из упругих кудряшек…
Невероятная в своей красоте — внешней и душевной. Та, глядя на которую, ни один человек не поймет — как можно было… Как можно было добровольно отказаться от того, чтобы эти глаза сочились любовью именно к тебе?
— Ты чего, бабуль? Грустная какая-то?
И очень чуткая, потому что замечает тоску в бабушкиных глазах моментально, опускается на корточки у ее ног, кладет руки поверх ее напряженных кулаков, смотрит уже снизу, еще с улыбкой, но уже немного тревожной…
Зинаида же… Будто заново переживает всю ту боль, которую пережила только что. Только уже не за себя, а за Аню. Не заслужившую, чтобы мать с ней вот так…
— Все хорошо, ребенок. Все хорошо…
Сама не знает откуда, но находит силы, чтобы взять себя в руки, освободить одну, потянуться к Аниной щеке, провести по ней, касаясь вроде бы кожи, а на самом деле того самого счастья… Улыбнуться шире, прокашляться…
— А у тебя? — спросить, отметить, что щеки девочки почему-то розовеют, взгляд опускается, она закусывает губу, потом же снова смотрит на бабушку и тихо произносит:
— У меня хорошо, ба. У меня просто замечательно…
И заливается совсем непростительно очевидным румянцем.
* * *
Корней потянулся к чашке с кофе, собираясь сделать очередной глоток, но стоило взвесить, как понял — не судьба. Чашка пуста. Перевел взгляд с экрана ноутбука, где скролил сайт Dezeen, с разной степенью интереса разглядывая и местами почитывая о новинках в его родном — архитектурном — мире, сначала на чашку, а потом и на кофемашину, которая, сейчас казалось, стоит предательски далеко.
Но лень в себе он поборол давным-давно, еще в детстве, поэтому выбора не было. Хочешь кофе — идешь и делаешь.
Встал. Размял плечи, успевшие немного затечь, направился в нужную сторону, бросая взгляд на часы, которые показали без четверти шесть и отсутствие любых входящих сообщений и звонков.
Сегодня была суббота. Тренировочные круги давно закрыты — еще утром в тренажерном зале. Планы на вечер — впервые за долгое время максимально простые. Быть дома. Читать журналы, проверять почту, неспешно разгребать то, на что не хватило времени на протяжении недели… Наслаждаться тишиной и одиночеством.