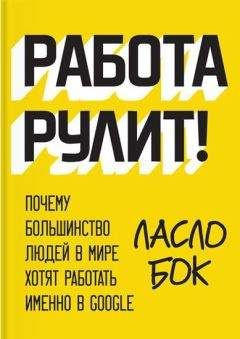– Нет.
«Хорошая», – хотел добавить он.
Но промолчал. Он не понимал, что происходит. Сидит она перед ним, взволнованная, и глаза блестят растерянно, и лицо от этой растерянности бледное, и колечки разноцветные вьются на лбу, как… Он не знал, с чем сравнить эти колечки. Он и думать не мог, что когда-нибудь ему понадобятся такие сравнения.
– Федь, – вдруг сказала Кира, – а почему же ты сейчас насовсем приехал? Варя ведь в Америке будет рожать, ты сам говорил. Ты же сначала к ней вернешься, а сюда – потом, уже все вместе?
Эти слова охладили его, как ушат колодезной воды. Он не знал, что на них ответить.
– Да, – сказал он. – Конечно.
Кира отвела глаза. Что-то не то между ними. Неловкость? Или недостаточность? Да, недостаточность – точное слово.
– Еще аджаб-сандала хочешь? – спросила Кира.
И сразу же покраснела. Наверное, подумала, что сказала не то. Не о том.
– Нет, спасибо. Я сыт.
Он повертел в руках вилку, оставшуюся на столе. Положил вилку, взял коробочку с нитками и иголками. Коробочка была картонная, из отеля. Он ее положил тоже. На столе лежали еще какие-то случайные предметы. Книжка.
Федор придвинул к себе книжку – это была история Древнего Рима, не учебник, а так.
– Это я для Тишки взяла, – сказала Кира. – Ему по древнеримскому быту доклад задали.
Федор открыл книгу, пробежал глазами по странице, усмехнулся.
– Что ты смеешься? – спросила она.
– Да вот. – Он прочитал: – «Чтобы выглядеть более соблазнительными в глазах мужей и любовников, знатные римлянки припудривали соски золотой пудрой».
– Ну да! – ахнула Кира. – А мне в библиотеке сказали, для школьного доклада подойдет.
Она вскочила и у Федора из-за плеча тоже заглянула в книгу.
– Да, правда. Про золотую пудру на груди, – сказала она.
– А ты думала, я тебя обманываю?
Он повернул голову и снизу заглянул ей в глаза.
– Нет.
От того, что они смотрели друг на друга так близко, от того, что этот взгляд предваряли слова про золотую пудру на голой груди, – тяга, которую он весь вечер чувствовал к ней, стала очень сильной. Бесстыдно сильной.
Но она не могла больше длиться вот так, эта тяга. Он должен был сделать следующий шаг. А он не чувствовал за собой права его сделать.
– Я пойду, Кира, – сказал Федор. – Тебе завтра тоже рано вставать.
Она замерла у его плеча. Потом шагнула назад, давая ему встать. Он встал и пошел к выходу из кухни. Она молчала. Он чувствовал себя то ли подлецом, то ли придурком, то ли тем и другим вместе. Но что с этим делать, не знал. Видно, ничего не поделаешь.
– Я сам открою, – сказал Федор, заметив, что Кира сделала движение, чтобы идти за ним в коридор. – Спокойной ночи.
Она осталась на кухне, а он, не глядя на нее, вышел в прихожую, оттуда, одевшись, на лестницу, оттуда на улицу… И поскорее!
«Я сам не понял, как это началось. С чего это вдруг началось? С золотой пудры? Или раньше?»
Федор шел по Трехпрудному переулку к Патриаршим быстро, словно от кого-то убегая. Он и убегал, конечно – от себя. Пошлость этих слов, даже мысленно произнесенных, заставила его поморщиться.
Заметенный снегом Трехпрудный был совсем не похож на болота Нового Орлеана, на простор-ные, пышущие жаром степи Техаса, и огни московских домов ничем не напоминали огни нефтяных вышек в Мексиканском заливе. Но вот это ощущение бегства, бессмысленного, не имеющего направления, лихорадочного движения, – оно повторялось, и сейчас Федор ненавидел себя за него так же, как в тот день, когда предпринял его впервые.
Он заставил себя остановиться. Сел на постамент памятника Крылову возле «Слона и Моськи».
На Патриарших происходило гулянье и, кажется, не обычное, ежевечернее, а какое-то особенное. Людей было много, играла музыка. Пруд был расчищен от снега и ярко освещен, а подо льдом видны были огромные яркие картины. Конькобежцы скользили прямо по ним. Не по ним, а по льду, конечно, но выглядело это фантасмагорически и еще больше будоражило его потрясенное сознание.
Он смотрел на эти картины во льду, на круженье людей над ними, и память возвращала его к тому, что было причиной его смятения. Не к Кире, нет, с ней не смятение было связано, а совсем другое.
К Варе возвращала его память, и не к ней даже, а к тому, как она приковала его к прошлому. Он и не предполагал, что так прочно.
В Нью-Йорке жить им с Варей стало легче, чем в Праге. Во всяком случае, Федор полагал, что если больше денег, то и жизнь легче, а стипендия в Нью-Йорке у него стала повыше, да и подработки сразу появились. Ему, правда, было здесь не легче, а труднее, потому что учеба в Колумбийском университете требовала от него все больших и больших усилий. Но усилия – это его личное дело, а в целом им, семье, жить стало легче безусловно.
Варя была с ним согласна. Ей вообще понравился Нью-Йорк. Федор прилетел туда сначала один, чтобы немного наладить жизнь, а она – потом.
– Прага все-таки маленькая, – сказала Варя, когда Федор встретил ее в аэропорту Кеннеди. – А здесь – посмотри!
Небоскребы Манхэттена высились вдалеке, в дымке за летным полем.
– Я всегда хотела жить в большом-большом городе! – Варины милые глаза сверкали. – Потому и в Москву приехала. А Нью-Йорк ведь еще больше, чем Москва.
Федор не очень понимал, зачем говорить очевидное, но Варя счастлива, и пусть говорит, что хочет.
Он быстро к ней привык. Наверное, так и должно быть? Люди и должны привыкать друг к другу, раз они живут вместе. У его родителей это было так, и он был уверен, что это правильно.
Вероятно, Варя тоже так думала, потому что всегда была оживленной и счастливой, и в Праге, и в Нью-Йорке тоже. Она собиралась поступать в киношколу, ходила на какие-то занятия в театральную студию в Гринвич-Виллидж, покупала книжки про кино… Потом почему-то перестала. Федор спросил было, что произошло, но она ответила с неожиданной резкостью:
– Какая тебе разница? Артисткой быть я больше не собираюсь. Это в прошлом.
Надо было, наверное, все же выспросить у нее, в чем дело, но Федор рассудил, что ему, например, было бы неприятно, если бы кто бы то ни было взялся выведывать у него то, о чем он сам говорить не хочет. И чем Варя от него отличается?
Конечно, он видел, что Варя отличается от него сильно. К тому времени, когда Федор написал и защитил диссертацию, он понимал это уже очень ясно.
Варя была сентиментальна, а он считал, что сентиментальность и способность к сильным чувствам – это разные вещи, и любое проявление сентиментальности вызывало у него неловкость. Варя не читала почти ни одной книги из тех, которые он прочел в детстве. Варя любила шумные компании, а он предпочитал работу.