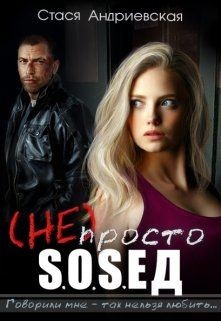И мужчина обернулся. Впрочем, обернулись очень многие, включая и его спутницу — так дико прозвучал мой вопль. Обернулись, но, не найдя ничего интересного, один за другим отвернулись.
И это был он, Игнат. Я узнала его из тысяч, несмотря на пальтишко и кепи. И он, как и прочие, скользнул по мне любопытствующим взглядом, задержал его на секунду, во время которой я чуть не умерла от остановки сердца… И, безразлично отвернувшись, бережно подтолкнул свою спутницу под поясницу, позволяя первой пройти турникет выхода на посадку.
Глава 41
Около двух лет назад
Он бился с горой один на один, не раз отчаиваясь, но каждый раз находя крохи воли вставать и идти дальше — через боль, голод и безнадёгу. И он победил, хотя и не вернулся в мир людей на триумфальной золотой колеснице. Наоборот, однажды протиснув измождённое тощее тело сквозь расщелину и попав наконец наружу, куда-то значительно ниже затерянного на вершине плато, долго ещё плутал между скал, силясь найти хоть какие-то признаки людского присутствия. Хоть тропу, хоть отзвук голоса или запах кострового дымка в воздухе… И не находил.
И всё бы ничего, нужно было просто продолжать идти вниз, но усталость валила с ног. …С ноги. Каждый шаг был неподъёмным, словно до верху залитый свинцом, подмышка до крови растёрта костылём, и одной только воли — той самой, злой упёртой воли, заставлявшей двигаться вперёд по темным душным пещерам, вдруг стало слишком мало. Единственное, чего теперь хотелось — спать. Непреодолимо. Долго и беспробудно.
Таким, вот, мертвецки спящим, его и нашли пастухи. Не говорящие ни на русском, ни, тем более, на английском, они как могли организовали эвакуацию к подножию, а оттуда, на специально подъехавшей ради этого скрипучей телеге, запряжённой ослом, доставили в крошечный, даже не знающий электричества аул на пару-тройку пастушьих семей.
Едва более-менее отлежался, как тут же языком жестов выпросил доставить его куда-нибудь в село побольше. Добирались туда всё на той же телеге, медленно и долго, по вилючему, обрывистому серпантину. Зато, когда добрались и на каменистых улицах показались первые обшарпанные автомобили, появилась и надежда на связь с большим миром.
Его привезли в дом к Главе. Глава — мужчина сильно в годах хорошо говорил по-русски и с радушием принял путника. Гордеев представился ему туристом-экстремалом, заблудившимся в пещерах. Рассказал и о спасшем его отшельнике. И оказалось, Глава тоже знает о нём не понаслышке.
Он появился в их местах в самом начале нулевых — крепким, зрелым мужчиной с хмурым лицом и нелюдимым, малоразговорчивом характером.
— То есть как, мало говорил? — удивился Гордеев. — Он же вообще глухонемой?
— Нет, — добродушно рассмеялся Глава. — Обычный, говорящий. Пожил у нас в ауле буквально с неделю, собирая поклажу для большого похода в горы, а уходя, взял обет молчания и отшельничества.
Эта новость настолько поразила Гордеева, что он сам словно язык проглотил, долго не находясь, что сказать. За всё время ни разу не возникло у него подозрений, что старик слышит, и ни разу старик не выдал себя хоть звуком каким-то, хоть поведением. Разве что… Вспомнилось вдруг, как при первой встрече луч фонаря мелькнул по стене и стал удаляться, а когда Гордеев закричал — вернулся. Вспомнились и понимающие взгляды старика, и его слёзы от Гордеевских исповедей. И прощальное пожатие руки…
— Этого не может быть… — признать собственную слепоту было трудно. — Я бы заметил!
Глава только руками развёл:
— Святой обет — дело чести. Бадрун принял его прилюдно, уповая на волю Аллаха милостью своей дарующего возможность искупить грех. Никто из нас тогда не знал, что за человек этот Бадрун, откуда он и в чём его вина. Это потом уже я сам узнавал, не давала мне покоя боль в его глазах. Давно это было. Лет двадцать уже прошло, а я до сих пор помню. Я его с тех пор и не видел больше, хотя и слыхал от чабанов, что живёт тот в горах, а где именно — никто не знает, слишком места там неприступные. Это на восточной стороне есть дороги и можно подъехать хоть к самой горе, а у нас здесь, сам видел, у подножия только чабаны живут.
Это многое объясняло. Например то, что в лабораторию Гордеев с Утешевым попали хотя и с проводником и переходом по горным тропам, но без переезда по обрывистым дорогам, где только арба с ослом и пройдёт. Да и то не везде. Выходит, в своих плутаниях, Гордеев не только прошёл гору сверху донизу, но и прошил из края в край, насквозь.
— И что Бадрун? — Имя спасителя сорвалось с губ с большим почтением, стало отчаянно жаль, что не знал его раньше, не написал на могиле. — Почему подался в отшельники?
— Прости, дорогой, не могу тебе рассказать. Не моя тайна. Бадрун захочет, сам скажет.
— Не скажет. Нет его больше.
Глава помолчал. «Умыл» лицо ладонями, вознося короткую молитву Аллаху. Покивал своим мыслям.
— Ну раз такое дело… Он был чеченцем. По молодости долго жил в Москве, учился на хирурга, работал в больнице. Потом, в начале девяностых, вернулся на родину, людей лечил, женился, детей родил. А потом война. Тогда многие запутались. Искренне думали, что за свободу борются, а на самом деле на козни Шайтана попались. И Бадрун в их числе. Был полевым хирургом, оперировал раненных боевиков, лишь изредка навещая семью, что выживала в ауле. И в один из таких дней приполз к его порогу раненный русский. Откуда взялся — один Аллах знает. Кричал от боли, рану в животе руками зажимал… А Бадрун к нему не вышел, и никому из домашних не велел. Ночью крики прекратились, а утром жена Бадруна узнала в истекшем кровью русском парне того, кто не так давно, пока её муж воевал в горах, здесь, в окрестностях аула, прикрыл собою от взрыва их маленького сына…
Повисла пауза. Был ли этот рассказ живой притчей или правдой, но сходилось в нём многое — от мастерской ампутации, до непрестанных молитв Бадруна и стойкого соблюдения обета молчания.
— Я держал его за руку, когда он ушёл к Аллаху, — наконец прервал молчание Гордеев. — И сдаётся мне, он заслужил своё прощение, потому что ушёл с улыбкой, как будто увидел в небе что-то… долгожданное.
Ещё через пару дней в аул приехал человек из Конторы.
— Бирюков, — сухо протянул он руку. — Юрий.
Фамилия была знакома. Этот Юрий занимал должность равную Синякину, но в параллельном отделе. И то, что сюда приехал он, а не Генка, как и то, что Бирюков приехал лично, не сулило ничего хорошего.
Смотрели друг на друга: Гордеев пытаясь сориентироваться как себя вести, а Бирюков откровенно разглядывая измождённое, бородатое лицо Гордеева.
— Синякин? — наконец коротко спросил Гордеев сразу обо всём.
Бирюков едва заметно склонил голову к плечу. Глубоко заинтересован, хотя и скрывает. Возможно, как и Гордеев, не вполне доверяет и пытается на лету просчитывать ходы. Фильтрует поступающую и исходящую информацию.
— Под следствием.
Невозмутимый взгляд глаза в глаза… Но сколько же и без того скудных сил забирает у Гордеева это видимое спокойствие!
— Что вменяют?
— Ну а ты как думаешь? — с прищуром сложил руки на столе Бирюков. — Превышение должностных, нарушение устава, возможно, даже, диверсионная составляющая…
— Нет! — перебил Гордеев. — Он не предатель.
— Следствие разберётся, — пожал плечами Бирюков. — Сам же понимаешь, я к этому доступа не имею.
— Это была самоликвидация. Никто не ожидал, что Утешев лично подорвёт лабораторию.
— Вот-вот, — кивнул Бирюков, — ещё и Утешев. А там, — многозначительно поднял глаза к потолку, — между прочим сильно недовольны тем, что вы наводите тень на плетень. Да и где он, этот ваш Утешев? Благополучно сдёрнул за бугор?
— Скорее, в бугор. Безвозвратно. Но это всё непредвиденная ситуация. По нашим расчётам, он вообще не должен был лезть в лабораторию в те дни.
— А по их расчётам, — снова взгляд в потолок, — в это не должны были лезть вы. А поэтому и смягчающих вам скорее всего не будет.