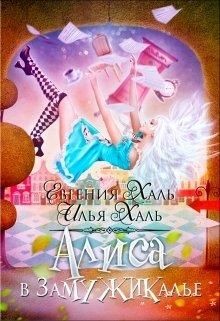протянул мне руку.
— Не хочу, спасибо!
— Ладно, — он наклонился и поднял меня на руки.
— Отпусти, Платон, пожалуйста!
— Извини, не могу.
— Можешь. Спасибо тебе большое за помощь и участие, но сейчас я хочу остаться одна.
— Ну вот и думай, что меня здесь нет. Только выйди из душа. Простудишься в мокрых вещах.
Платон вынес меня из кабины, взял полотенце и начал растирать.
— Разденься и надень сухой халат, — он отвернулся.
Я не хотела переодеваться. Мне казалось, что под водой легче. И я снова зашла в душевую кабину и села на пол.
— Ладно, — спокойно сказал Платон.
Снова зашел в кабину и хотел поднять меня на руки.
— Да отпусти ты меня! — закричала я. — Пожалуйста! Мне ничего не нужно.
— Мне нужно, — он упрямо поджал губы и попытался поднять меня с пола.
И тут меня прорвало.
— Боже мой, почему нельзя меня просто оставить в покое? — заорала я. — Я что так много прошу? Немного тишины и одиночества, и всё!
— Это хорошо, ты кричи и плачь. Это нормально, — Платон решительно поднял меня и вынес из ванной.
— Ничего не нормально! Вся моя жизнь ненормальная! — закричала я. — Я ее просрала! Просрала всю свою жизнь!
— Это не ты. Успокойся! Слышишь? — Платон усадил меня на кровать, бросился в ванную за полотенцами и начал раздевать меня. — Я не смотрю, не стесняйся, — бормотал он.
— Я — идиотка, дура и клуша! Адель была права. Как можно было всё профукать? Столько лет жить с закрытыми глазами? Столько лет боли и вины… за что? Скажи мне: за что? — я схватила его за руки.
— За то, что ты лучше всех, — серьёзно ответил он. — Порядочнее, чище. Люди такое не прощают. Не знаю, что тебе сказала Адель, но ты ее с собой не равняй. Ты ничего не понимала, потому что каждый судит по себе. В меру своей испорченности. А ты настолько чистая, что тебе даже в голову не пришло подозревать мужа и проверять его, — он снял с меня одежду и завернул в полотенце.
А мне даже не было стыдно оттого, что он видит мою наготу. Я рыдала взахлеб. И никак не могла прекратить и успокоиться.
— Почему? Почему? Почему? — повторяла я, как взбесившийся магнитофон, застрявший на одной фразе. — Господи, как же мне жить теперь? Как?
— Хорошо жить, — Платон прижал меня к себе, целуя в лоб и щеки. — Шить сарафаны и платья из ситца. Вы полагаете: всё это будет носиться? Я полагаю, что всё это следует шить. Извини, когда психую, несу бред. Держу, держу, ты плачь, плачь, — он зарылся лицом в мои волосы. — Сейчас нужно плакать. Выплеснуть из себя всю боль. Вытолкнуть то, что мешает дышать.
И я рыдала. Безутешно, без остановки, не стесняясь и в голос. Не знаю, сколько мы так просидели. Слезы, наконец, начали иссякать. Осталось только тупое равнодушие. Даже если бы сейчас небо упало на землю, мне было бы все равно. Я прижалась к Платону всем телом, зарылась лицом в его широкую грудь. А он все целовал меня в волосы и шептал какую-то чушь. Но от этой чуши слезы уходили и боль отступала. Потому что я чувствовала, что не одна.
— Сицилианская защита, — вдруг прошептал Платон.
— Что? — не поняла я.
— В шахматах есть такой прием: защита с помощью нападения. Называется: сицилианская защита. Когда человек загнан в угол, он нападает, так как отступать все равно некуда. Дима использовал этот прием. Потому что есть люди, которые не могут быть виноватыми. Вот просто не могут, и всё. Не выносят это чувство даже в мелочах. У них всегда все плохие, кроме них самих. И даже когда ловишь их за руку, они продолжают выкручиваться и не признаются. Диме для того, чтобы чувствовать свое превосходство, нужно было переложить всю вину на тебя и втоптать в грязь. Это и есть первый признак варвара: видя того, кто выше и чище, у варвара не возникает желания стать лучше, научиться чему-то или просто восхититься тем, что ему недоступно. Наоборот, ему хочется разрушить и втоптать в грязь красоту и порядочность, чтобы не чувствовать собственную ущербность.
— Но… как ты догадался, Платон? Почему вдруг заподозрил неладное и обратился к частному детективу?
— Ключ, — ответил он, целуя мои плечи. — Ты рассказала, что сидела в реанимации, а твой муж побежал домой менять замок и отнял у тебя ключ. Меня это насторожило. Все крутил в голове: как такое может быть? У человека ребенок в больнице между жизнью и смертью, а он замки меняет.
— Но зачем ему это? — не поняла я.
— Видимо, он все продумал и готовил линию защиты. Если бы ты что-то вспомнила, что-то поняла, то он бы продемонстрировал этот замок, который можно легко открыть изнутри. Ну кто ставит замок-бабочку, если в доме ребенок? Вот Дима бы и сказал, что замок стоял там всегда. А ты придумала, что был другой замок с ключом, так как ты или врушка, или сумасшедшая. Он ведь всё время утверждал, что ты — истеричка.
Я встала и подошла к окну. Распахнула его, вдыхая свежий воздух, пахнущий водой — обычный венецианский аромат: жгучая смесь мокрого камня, тайны и блуда. Полотенце свалилось на пол. Я повернулась к Платону, не стесняясь наготы. Он сидел на кровати. Широко, по-мужски и очень красиво раздвинув длинные ноги. Одним локтем опираясь о колено. И смотрел на меня. Но как! Так смотрят на чудесную картину, не веря, что вот она, рядом. Так смотрят только на тех, кого очень любят.
Я подошла к нему и остановилась. Он осторожно обнял меня и прижался лицом к моему животу.
— Я подключу все свои связи, — прошептал он. — Дима сядет. Причём сядет надолго. И учитывая, кого он убил, вряд ли он выйдет из тюрьмы, — Платон осторожно положил меня на кровать и лег рядом.
— Можно? — спросил он, целуя меня в шею.
— Я очень устала. Можно я просто посплю? Ты не обидишься?
— Это глупый вопрос, — он подложил под мою голову еще одну подушку. — Твое желание — закон. Ты не должна спрашивать. Ты должна повелевать, — он хотел встать.
Я схватила его за рукав.
— Нет, не уходи! Пожалуйста! Давай просто поспим вместе.
— Как скажешь, — он подошёл к окну и закрыл жалюзи. — Пусть будет ночь. Я погашу солнце, звезды и луну, — он лег рядом и обнял меня. — Спать и видеть сны. Красивые и разноцветные, — он положил мою голову себе на плечо.
Мне снилась беда. Она стояла под окнами гостиницы и, задрав голову,