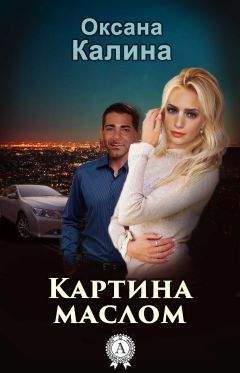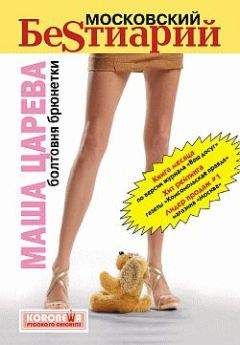Помню, тот май выдался по-летнему солнечным. В субботу мои одноклассники договорились поехать на Медвежьи озера. Моего внимания тогда горячо добивался некий Данила Донецкий — он был плечистым, высоким и каким-то взрослым, по нему страдало большинство девочек нашей школы, но почему-то его угораздило влюбиться в меня. Неисповедима ты, игра подростковых гормонов! На уроках он, совершенно не стесняясь, сверлил меня серьезным влажным взглядом. Не улыбался, перехватывая мою вопросительную улыбку. Не пытался, подражая другим, поймать меня в полупустом классе и, прижав к испачканной мелом доске, потискать под глумливый гогот остальных. Не писал слащавых посланий. Не выведывал о моей жизни у подруг. Зато несколько раз провожал до дома и даже напрашивался познакомиться с родителями.
— Боюсь, мои родители тебя не порадуют, — передергивала плечами я, — моя семья слегка не в себе.
— У тебя замечательная семья, — без улыбки возражал Донецкий, — когда-нибудь ты поймешь.
Так вот, восхитительным субботним утром, золотым, солнечным, пахнущим сиренью, возбуждающим адреналин, все мои одноклассники отправились на Медвежьи озера, ну а я осталась дома, по самые уши заваленная шитьем. Уроки кройки и шитья мне давала известная в узких кругах портниха, специалист по театральным костюмам. Считалось, что я делаю успехи. Меня немножко коробило от бабушкиных надежд на то, что в один прекрасный день, с отличием окончив Текстильную академию, я смогу стать костюмером, устроюсь работать в театр и хотя бы таким приземленным образом приобщу свое жалкое существо к таинству высокого искусства. Я сидела у открытого окна, забрав прилипающие ко лбу волосы в высокий хвост, и возилась с нижними юбками, когда вдруг в дверь позвонили. Открыла бабушка, с удивлением я услышала, как ее молодой для семидесяти лет голос перебивает знакомый басок Данилы Донецкого. Я замерла с иглой в руках. Через несколько минут дверь в мою комнату приоткрылась, и в нее втиснулся сопровождаемый недовольной бабушкой Донецкий.
— Молодые люди, не больше десяти минут, — нахмурилась бабушка, — у Глашеньки сегодня много дел. — С этими словами она вышла, плотно прикрыв за собою дверь.
— Добро пожаловать в концлагерь, — улыбнулась я, немного смущенная.
В интерьерах моей по-девчоночьи сентиментальной комнаты в розовых тонах Донецкий казался взрослым бугаем.
— А почему ты не едешь со всеми? — он осторожно присел на краешек моей кровати.
Я досадливо кивнула на раскиданный по столу ворох тряпок.
— Вот. К понедельнику должно быть готово. Это костюм для балета. Если повезет, в следующем месяце смогу увидеть его на сцене.
— Ничего себе! — присвистнул он. — Значит, ты подрабатываешь? Копишь на что-то?
Его наивное восхищение заставило меня рассмеяться:
— Если бы. То, что меня взяли в подмастерья к такой известной портнихе, уже плата. Считается, что ее именем для меня откроются двери любого театра.
— Значит, ты мечтаешь стать художником по костюмам? Зачем же тогда тебе учить три иностранных языка?
— Папина прихоть. Мне бы самой за глаза хватило инглиша. Но он считает, что я обязана выйти замуж за работника посольства, и тогда, возможно, меня повезут в Европу, а там — приемы и вечеринки… Как-то так.
— Постой-постой, — нахмурился Донецкий, — но если тебя увезут в Европу, как же твоя работа в театре?
— Тогда работа в театре отменится, — спокойно объяснила я, — но ты не понял. Папе на театр наплевать, о театре мечтает бабушка. Между прочим, у меня есть еще и мама, которая держит для меня место в банке. Из-за этого мне приходится заниматься с университетским репетитором по математике.
— Так вот почему ты никогда никуда с нами не ходишь… У тебя просто времени нет.
— Рада, что ты понимаешь, — усмехнулась я, — ну а теперь… Ты извини, но к пяти вечера за этой юбкой прибудет курьер, и, если я к тому времени не закончу, у меня будут проблемы.
Донецкий не шелохнулся. Переводил задумчивый взгляд с мятых кружев на мое вспотевшее лицо. Подцепил пальцем атласную ленточку, повертел в руках. Я напряженно следила за его движениями — не могла оторвать взгляда от заусенцев на его пальцев, мнущих свежеподшитую оборку.
— Глань, а о чем мечтаешь ты сама?
Я удивленно на него посмотрела:
— В смысле?
— Ну вот твой отец мечтает выгодно сплавить тебя замуж, бабушка грезит театром, мама поджидает тебя в банке… А сама-то ты кем хочешь стать?
— Я как-то об этом не задумывалась, — нахмурилась я, — когда с детства столько перспектив. Остается только сделать выбор.
— Но тебе же до чертиков надоело шить эту юбку. Я же вижу по выражению твоего лица.
— А нельзя найти такую работу, которая приносит одно только удовольствие, — я заученно повторила любимую бабушкину фразу, — да, сейчас я с большим удовольствием отправилась бы на Медвежьи озера загорать. Но пройдет время, я пойду на балет, увижу эту юбку… и буду собою гордиться. Это восхитительное чувство — гордость за свою работу.
— Ну тебя и зомбировали! — восхитился он. — Впервые такое вижу.
— Да что ты можешь в этом понимать? — разозлилась я. Известный психологический казус — жертва, с пеной у рта защищающая своих губителей.
— Ладно, пойду я.
На прощание Донецкий вдруг ни с того ни с сего поцеловал мне руку — кончики пальцев, исколотые иглой. Не знаю, что на него нашло, — видимо, так действует на мужчин обстановка нашей забитой антиквариатом и хрусталем, несколько старомодной квартиры.
Данила Донецкий ушел — загорелый, обветренный, мускулистый, с мальчишескими содранными в кровь коленками и взглядом взрослого мужчины. А я, как и хотела, осталась со своими подъюбниками наедине. Работа почему-то не клеилась. Строчка шла криво, нитка путалась и рвалась, а в голову с упорством профессиональных взломщиков лезли назойливые неприятные мысли. О чем я мечтаю? Чего хочу? Неужели я в свои четырнадцать лет — не самостоятельная личность, а всего лишь жалкая проекция несбывшихся надежд моих родственников? Семья, состоящая из трех сильных, самостоятельных людей и одной беспозвоночной мямли, которой все вертят как хотят.
Почему так получилось? Когда все это началось? В самом детстве, когда бабушка впервые отобрала у меня намазанный вареньем блин и, несильно шлепнув ладонью по губам, сказала, что много есть (она выразилась — «жрать») позволено только животным? Когда мне рассказывали романтичные сказки о балете, а потом отвели в училище, где на самом же на первом занятии я получила растяжение колена? В тот вечер я, запершись в своей комнате, плакала, а бабушка и ухом не вела — она сама знала, что такое физическая боль, и считала, что терпение — это в порядке вещей… Да, но бабушка-то с самого детства бредила балетом! Она-то отправилась в училище сама! Ее-то никто ни к чему не принуждал, не заставлял, не высмеивал ее слезы слабости!