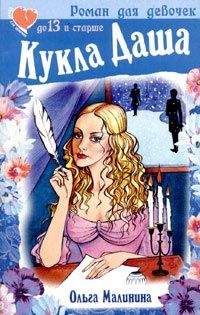— А офис по-гречески значит «змея», — сообщил Сева.
— Да? Забавно… Квартиру эту свою я купил в кредит. И мне надо срочняком его отработать. А ты — дочь… Я даже обдумываю, не начать ли «бомбить» вечерами.
Сева снова изумился:
— Неужели тебе не хватает денег?
— Большие запросы, — буркнул Николай. — При этаких никогда ничего не хватает. Усвоил? Но «бомбить», с другой стороны, — очень большой расход на бензин, а потом…
Мало ли кто к тебе подсядет… Потому я пока размышляю-думаю, без «бомбиловки» жизнь все-таки безопаснее. И без дочери тоже.
Сева вздохнул:
— А я бы хотел иметь дочь…
— Так заведи. — Николай нарезал яблоко на мелкие кусочки и стал увлеченно жевать. — Пара пустяков… Но я уже всех вас содержать не смогу, усвоил?
— Ну что ты… — покраснел Сева. — Просто… Как без любви-то?
Николай махнул рукой.
— Да если бы все дети на земле рождались исключительно по любви, земля бы давно обезлюдела. Всеволод, а на кой ляд тебе стихи? Никогда не мог въехать в эту ситуацию.
— Ну как же… — растерянно пробормотал Сева, не готовый к подобному вопросу. — Самовыражение…
Николай ехидно прищурился:
— Чего говоришь? Вот будешь выражаться, выражаться и довыражаешься… Выразишься, наконец, с такой полностью и определенностью, что ой-ой-ой… По-моему, слова опасны. Ты, орудующий словами, должен знать, что можно привести в движение огромные и страшные силы, если дать свободу двойственности слов: то, что нравится одному человеку, может смертельно ранить другого.
— Это опять философия, и она касается больших талантов, а не меня, — махнул рукой Сева.
— Это касается всех нас, которые много и без толку болтают, — отозвался Николай. — Кстати, Всеволод, ты усвой — цыгане нынче наркотой пробавляются. Самые ее активные продавцы. Так что поостерегись на будущее влюбляться в мамзелек, у которых красный верх — синий низ. Ладно… Дела у меня серьезные запланированы. Больше не могу с тобой тут прохлаждаться. Я недавно в аварию попал, кувырком полетел в кювет. Сам отделался ушибами, но машина помялась. Пока нашел ментов, то да се… Пришли уже группой машину вытаскивать. Она лежит себе на том же месте в кювете, изуродованная и перевернутая, и в ней вроде ничего не изменилось. Кроме одного — бесследно исчезла магнитола. Ее вывинтили из «гнезда», как в аварии не пострадавшую. Успели. Вот как мысль у ворья работает — чтобы ухватить даже из помятой машины! Так что теперь мне надо машину привести в должный вид. Или купить новую. Но будет нужно — зови! Только не затягивай с этим делом. Кто-то явится — звони сразу, я мигом приеду. — И меланхолично запел: — «Как упоительны в России вечера…»
Но никто не явился.
Ночью Севе приснился странный сон. Странный своей неожиданностью. Рядом с ним спала жена в какой-то бесформенной мятой размахайке, спала и сопела, словно все так и должно быть. Сева изумился: откуда это прекрасное видение? Он лежал, задумчиво-изучающе смотрел в потолок и размышлял: откуда, откуда?.. Ах да, это ведь та самая Ольга, обожающая рестораны… И вдруг в тишине услышал, как четко хлюпает носом в соседней комнате их восьмилетняя дочь Женька.
Сева сразу все забыл. Единственное существо на свете, которое он любил, хлюпало носом, а это грозило гриппом, осложнением, аденоидами, миндалинами, ревмокардитом… Дальше думать Сева побоялся и встал.
— Ты куда? — спросила жена.
— Сейчас… — неопределенно сказал он и поплелся на кухню.
Зажег свет и увидел привычно-надоевшую картинку: весело шныряющих возле мойки тараканов, грязные, не вымытые женой с вечера тарелки, неубранный хлеб и закапанную чаем клеенку. Сева отломил горбушку и посмотрел на часы. Стрелки застыли на четверти третьего.
— Я думаю, Оля, что тебе нужно взять бюллетень. Женю в школу пускать нельзя, — неуверенно сказал Сева, заглянув в спальню.
Оля безмятежно спала.
Сева вздохнул, сжевал черствую горбушку и пошел к Женьке. Она внешне повторила Бакейкина с такой точностью, что иногда он пугался. На него смотрели его же собственные запавшие вылинявшие глаза, она точно так же стояла и двигалась, крохотная, бледная, уже сейчас сутулая — настоящий маленький Бакейкин, который целый день сидит, сгорбившись, нога на ногу, в издательстве. Даже при своем росте метр шестьдесят пять он не мог выпрямиться, вытянуться во весь рост, его постоянно придавливало что-то к земле, гнуло, тяготило. Что? Он не задумывался об этом. Им легко и просто управляли те, кто умело и ловко захватил в свои пальчики невидимые ниточки, которые в нужный момент можно натянуть до предела.
Ольга.
Когда-то она пленила Севу тем, что с удивительной искренностью и непосредственностью часами, непрерывно, постоянно, надо и не надо, восхищалась Севой и его стихами, неподдельно сострадая, всюду рассказывала о его подвижническом каторжном труде в издательстве (он теперь работал там) и его бесконечных мучениях с тяжелыми, упрямыми авторами.
Она ужасалась и восторгалась бурно, энергично и по-настоящему талантливо. Мужчины покупаются лестью быстрее женщин, потому что плохо владеют этим оружием. Сева исключением не был. Немного позже он понял, что Ольга не знает меры ни в чем и говорит всегда так много, оживленно и напористо, что ни возразить, ни просто поговорить с ней невозможно. Тогда Сева сдался, замолчал и навсегда смирился со своим подчиненным положением.
Сон, великий драматург, четко строил свой таинственный сценарий, то уходя в прошлое, то убегая вперед.
Ольга умела выбить любую командировку за границу, хитро орудуя маркой частного издательства, где работал Бакейкин. Опираясь на то же издательство, она устраивала дочку в спецшколу и находила необыкновенных экстрасенсов и врачей. Проведя возле нее один вечер, многие начинали жалеть Всеволода.
Была еще заведующая редакцией.
Она подчинила Бакейкина не столько избытком энергии, как Ольга, а удивительной волей, несгибаемой ни при каких обстоятельствах. Заведующая, наоборот, не говорила совсем (этого делать она просто не умела), а только отдавала распоряжения. Возможно, она считала, что повелевать — единственная обязанность начальства. Сева и на работе больше молчал — он пытался угодить.
От одних требований — на работе — он уходил к другим требованиям — домой, а наутро возвращался в издательство… Скрюченный, хлипкий, жалкий, плелся он от школы, куда отводил Женьку, на работу. Те полчаса, что он проводил утром с дочкой, сжимая в руке маленькую ладошку, были лучшими в его жизни. Кажется, он даже распрямлялся чуть-чуть в эти минуты. Но взглядывал на дочь и снова бессильно съеживался: Женька сутулилась, горбилась, шаркала ногами… Что тяготило ее в восемь лет, почему она с такой страшной точностью повторила отца, его неумение стоять и ходить прямо?