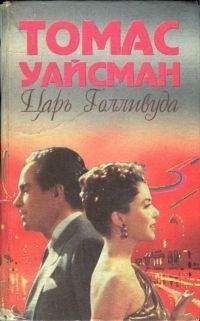С утра в доме кипела деятельная подготовка к прогулке, можно было даже подумать, что семья отправляется в длительное путешествие и того гляди опоздает на поезд. Оскар понукал членов семьи, крича Леушке: скорее, хватит бездельничать и дремать, принеси мне горячей воды, мне нужно побриться, а где мои маникюрные ножницы? Ты, конечно, забыла подстричь ребенку ногти? Поторапливайся, мадонна, ведь тебе еще и самой надо собраться; и у Леушки ненадолго портится настроение, она говорит: как может она начать одеваться, если ей еще нужно одеть Оскара и ребенка? Несколько раз окрики Оскара становятся угрожающими, так что кажется, это невозможно уже вынести. Но в конце концов они собрались, хотя квартира осталась совершенно разгромленной, замусоренной предметами туалета, которые рассматривались, обсуждались и затем отклонялись; остатки завтрака не убраны, посуда не перемыта, сапожную щетку можно обнаружить на кухонном столе, одежная щетка и вообще оказалась сломанной, а тут еще перед самым выходом Алекс захотел в туалет. Когда он вышел оттуда, Оскар подверг его и Леушку строгому окончательному осмотру. Раз они идут вместе с ним и их могут видеть в его обществе на Пятой авеню, он должен быть уверен, что они выглядят безукоризненно; ему приходится вращаться в кругу значительных деловых людей, и он рекомендовал жене и сыну, хотя это больше походило на повеление, постоянно иметь приятное выражение лиц.
После того как начальная часть пути была проделана в надземке и на трамвае, на котором мальчик часто ездил и раньше, Оскар нанял кэб для всего дальнейшего путешествия. Для Алекса это явилось совершенно новым переживанием. Уличное движение по Пятой авеню, с допустимой скоростью не больше шести миль в час[1], позволяло ему рассматривать барственно-парадные экипажи, автомобили и прогуливающихся щеголей. Оскар настоял, чтобы верх кэба был откинут, чтобы они могли наслаждаться солнечным светом; к тому же это не только даст им возможность лучше видеть, но и быть лучше увиденными. Алекс испытывал большое удовольствие от того, что он едет в этом экипаже, по первоклассному покрытию этой улицы, и он жадно смотрел по сторонам, а глаза его восхищенно сияли от рассматривания вещей, которыми он мечтал обладать. Солнечный свет отражался от желтой меди экипажных фонарей и от пуговиц на ливреях кэбменов и возниц, усеивая всю авеню мерцающими вспышками и бликами. Здесь было так много всего, на что стоило посмотреть, что у Алекса совсем закружилась голова от кручений, верчений и поворотов во все стороны… Модные, изящные желтые и черные ландо вкрадчиво пробирались сквозь нелегкое движение; седоки, управляющие собственными экипажами, держали вожжи в одной руке, другой приподнимая шляпу перед хорошенькой знакомой девицей, застывшей в открытом ландо в той позе, какую принимают, позируя для семейного портрета; рядом с ней, в облаке оборок, седая женщина; все заняты болтовней и обмахиванием веерами, узнаваниями, замечаниями и поклонами… Великолепный экипаж с ливрейным кучером и ливрейным лакеем на запятках; большеусый человек и его полногрудая спутница видны внутри, за прихваченными ремешком бархатными шторками с бахромой, напоминающими широкую бархатную сонетку для вызова слуг в большом доме… Молодой человек, выглядящий спортсменом, удивляет всех защитными авиаторскими очками (хоть они торчат сейчас у него на лбу), в слегка запыленном, легком кабриолете… Очаровательные леди под огромными шляпами, убранными цветами, сидят в непринужденных позах друг против друга в элегантном, очень высоком экипаже, который кажется лишь частью их самих и их дорогостоящей экипировки… Большая, тяжелая, долготелая лошадь, осоловевшая от множества солнечных бликов на никелированных и латунных деталях, вспыхивающих на солнце; цветные зонтики для защиты от солнца заткнуты за плетенные из ивовых прутьев поручни, укрепленные над подножками, рядом пристегнутая ремнями корзина с провизией для пикника, еще коробка с дорожным инструментом, еще запасное колесо…
— Взгляни, Александр, — обратился к нему отец. — Только не оборачивайся резко. Посмотри как бы случайно, пристально смотреть — дурная манера. Эти двое, видишь их? Ну те, что вышли из кэба. Ты знаешь, что это за люди?.. Роб Куллер и Сэм Мак-Клар. Заметные фигуры в журнально-издательском деле. И вот там, тот, что прогуливается один, знаешь ли ты, каким почетом он окружен?.. Ты знаешь, кто это? Не знаешь? Леушка, мальчик ничего не знает. Чему они учат его?
Он неодобрительно покачал головой, огорчившись при мысли о недостатках образовательной системы.
— Это, — наконец заявил он, — Чарльз Эм Шваб, железо и сталь. Очень, очень большой человек. Он тот, кто он есть, и помнит об этом. Александр, запомни его лицо. Знать влиятельных людей очень полезно.
Александр покорно поглощал все эти наставления. Большая карета, запряженная четверней, и с шестерней сопровождения — Оскар все пояснял семейству, — принадлежащая мистеру Вандербильду, проделывала свой путь к личной стоянке возле Велдорфа. Люди, прогуливающиеся по тротуарам, оборачивались и смотрели на этот грандиозный парад, частью которого Алекс, находящийся в кэбе, полагал и себя. Здесь было немало зевак, чисто городские ротозеи, глазеющие и показывающие пальцами то на то, то на это, что являлось весьма дурными манерами, и отец не упускал случая наглядно продемонстрировать ребенку, как не должен себя вести воспитанный человек. Здесь были маленькие опрятные дети — мальчики, одетые совсем не так, как Алекс, и девочки в платьицах до колен и в коротких носочках, выведенные на прогулку своими гувернантками… Алекс испытывал чувство превосходства над ними, он ехал в кэбе, а они всего лишь прогуливались пешком.
Когда они прибыли к месту и входили в "Голландский дом", Оскар кивком указал им на высокого, необычного человека, выходящего из отеля; произошло некое театральное действо: преувеличенно размашисто этот человек приподнял цилиндр и сделал глубокий актерский поклон. И он повторил этот хорошо заученный жест трижды: отдельно для Оскара, отдельно для Леушки и отдельно для Алекса, затем, слегка раскачиваясь, удалился.
— Это, — сказал глубоко удовлетворенный Оскар, — Джеймс Кей Хаскет, известный актер, сравнимый лишь с лучшими актерами Вены. Это не преувеличение. А какой характер! Я встречал его лично, время от времени угощал его выпивкой, Александр, ты слушаешь? И вот этот актер тебе… — Оскар, выражая явное восхищение, поцеловал кончики своих пальцев, — тебе, ребенку, поклонился столь учтиво и благовоспитанно. Видишь ли, Александр, твоя мать и я, мы привыкли к лучшему из лучшего, что есть в театре, в опере, в музыке. Слышать великих исполнителей — Бернхардта, Дузе[2] — а я их не просто видел — что такое просто видеть? Поглазеть? Любой дурак может глазеть. Ты видишь великих артистов вблизи, нанося им визиты, и во время таких встреч ты элегантно одет, от тебя исходит приятный аромат, ты можешь оценить все, что они говорят, ты знаток, рассуждающий о том, что есть театр. Это тебя не движущиеся картинки, что показывают в заплеванном помещении, полном небритых мужланов, не умеющих говорить на языке той страны, где они живут.