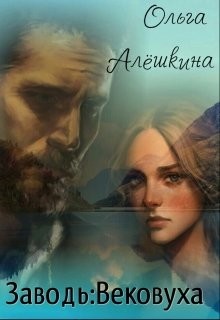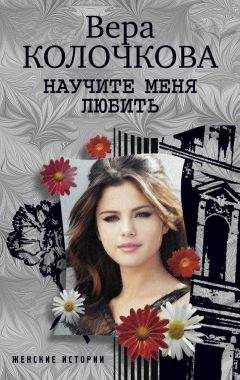- Саня, дочка, вставай, - повернула меня за плечо бабушка, а я растерянно на нее посмотрела. – Вставай, милая, пойдем, Степана проводить. - Не хочу, не хочу, нет, - завертела я головой, затряслась, как лист ветром растревоженный.
- Надо, Саня, надо, - поднимала меня она словом и руками. Усадила в кровати, к себе прижимая, одевала, как куклу соломенную, приговаривая: - Изыщи силы, пойдем, проводим в последний путь. Сто раз потом пожалеешь, что не пошла, не простилась.
Мама к ней на помощь подскочила, одели они меня, на воздух вывели, понемногу в себя пришла. Идем тихонько, к бабушке жмусь. На могильнике народа тьма, пол села собралось, не меньше. «Это когда стариков провожают никого, а к молодым то сбегаются», «Ты поплачь, поплачь, девка, все легче будет», -шепчет мне бабушка.
Да только не могу я плакать. Слез во мне не осталось, все выплакала. И не верится мне, что Степан там лежит. Не он это, не он. Чужак какой-то, его и провожаем, а Степа в заводе, трудится. Картинами, что в голове своей рисую, как саваном белым прикрылась, ото всех спряталась. На картинах тех Степа в поле стоит, в рубахе льняной, улыбается мне и литовкой сноровисто работает. А на другой во дворе своем, дрова рубил, так, что вся удаль напоказ. Стою, в платок черный кутаюсь, стараясь на Серафиму не смотреть, не слушать ее. Потому, как глянешь на нее, услышишь, как она голосит, и все на места свои встает. И гроб, и Степа, и отчаяние.
Когда кругом проститься все пошли, бабушка меня под руку взяла и тихо шепчет: - Пойдем, милая, простимся.
Народ подходил к домовине, кто просто крестился, с молитвой, кто за руку держал, а кто и с поцелуем к челу склонялся. Мы плавно приближались, я глаза то и дело прикрывала, взглянуть боясь. Казалось, увижу его тут лежащим, и картинки рисовать себе в голове уже не смогу. Шаг, еще шаг… - Не подходи, не подходи, - раздался хрипящий голос Серафимы.
Она почти легла на Степу и прикрывала его от нас, всей своей материнской грудью, тряся головой в разные стороны. Платок ее сбился в сторону, из него пучки волос торчат, глаза мутные от слез, лицо кривится. - Мать, мать, - просил ее брат Степана, поднимая под обе руки. – Встань, дай
людям то подойти. - Не пущу, не пущу, - шипела она.
Бабушка перекрестила ее в воздухе, себя, прошептав: «Прости господи, душу грешную, не ведает, что творит», и повела меня. Отошли мы в сторонку, прислонилась я к стволу березовому, задыхаться стала, голова кругом идет, поплыло все. Раздались еще громче, еще судорожнее всхлипы и рев Серафимы, несколько голосов ей вторили. Степу опускать в землю начали. В сердце, словно булавку воткнули, нестерпимо больно.
- Степушка, сынок, - лихорадочно крикнула Серафима и за домовиной в яму прыгнула.
Не могу больше, сил нет! Воздуху, воздуху мне не хватает... Кинулась я бежать... Холмики могильные обегаю, до Фединого добежала, не задумавши, само так вышло, и упала на него. Здесь уже и крик и плачь рвались, что есть мочи. Лежала и выла, руками в сухостой впившись, а после свернулась калачом и еще долго всхлипывала.
На девятый день пошли с бабушкой на могилку, дождавшись, когда родня Степана ушли с кладбища. Вот он холмик, вот он крест. А Степа где? Где он?!
- Здесь он дочка, здесь, - положила мне бабушка руку, на грудь, туда, где сердце стучит, ровно вслух я сказала. - Помолимся за раба божьего Степана.
Бабушка про себя молилась, а я со Степой разговаривала, сама за него отвечая.
Потом уже выяснилось, что управитель приказ отдал Степана наказать, дескать, дерзость его непростительна. Исполнить приказ Калабурда вызвался, окаянный. Всю-то ненависть и злобу свою, на него он выместил. Вместо назначенных двадцати плетей - сто двадцать раз высек, никак думаю не меньше. Сказывают и палкой бил, и кулаком. Только душегубство их, с рук им сошло. Управитель так дело обернул - вором Степана выставил, словно в управу он залез, скрал что-то, да попался.
Несколько дней из дома не входила, больше лежала да в стену глядела. Только, когда уж совсем совестно становилось, вставала и шла помогать матери. Расходилась понемногу, даже до бабушки дойти решила, ей помочь с водой поправиться. Пока шла улицей, то с одной, то с другой стороны неслось вслед: «Невеста-вдовица», «Вековуха», «Невеста-сиротка». Ладно бы только ребятишки несмышленые, а то и бабы взрослые и девицы глумились. От этого горе становилось совсем безутешным. Злые люди. Сторониться их стала.
С наступлением холодов, отец домой вернулся, как обычно, сердит и неприветлив. Пил часто, помногу. Долго лежал на печи, бездельничая, потом уходил по селу шатался, по дружкам - приятелям, возвращался пьян, в дурном настроении. Часто скандалил, выискивая для этого малейший повод. Из дома хоть вовсе беги. Если и шла я на улицу, все больше в лесу ходила. Покойно в лесу, дышится справно, сердце не заходится. Часто к деду уходила, каждый раз неожиданно, находя его, и избу, в разных частях леса. Он мне фокусы разные показывал, как с тем мужиком, что топор унес. Которые мне нравились, а которые и злыми считала. Так и говорила ему, он лишь щурился. Сказками их звала.
Осень к концу подошла, приближались короткие зимние денечки. По селу ходить я все так же сторонилась, без большого повода не шла. На сороковой день мне Степан во сне явился. Видела его так ясно, словно явь. Он стоял в длинной белой одежде, возвышаясь. Такой ладный, красивый, светлый, волосы кольцами вились. Улыбается и говорит мне: «Ты прости всех. Управителя, Калабурду, мать мою прости и людей этих, со злыми языками. Не держи черноту в душе, не носи ее - губит она». Я руку к нему тяну, прикоснуться, а он отдаляется, шагов не делая. Я за ним бегу, догнать хочу, а он мне пальцем грозит: «Тут будь, не ходи». Кричу ему: «Степа, Степа, обожди!», а слов своих не слышу, словно говорить разучилась, только рот открывается. Он в воздухе растворяться стал, а меня мать за руку трясет, я и проснулась. Сказала, что задыхалась я, да Степу звала.
Снег в эту ночь выпал белый, пушистый. Он и утром шел, покрывая остатки голой земли, облепляя, словно кутая, палки сухой травы. Васятка возрадовавшись, на улицу побежал, предвкушая скорое катание на санях с ребятней. Мы с бабушкой да мамой на могильник ходили, навестили и Степу, и Федю, и деда. Помолчали, каждый о своем, а когда выходили с погоста, бабушка, вздохнув, сказала вслух:
- Вот и славно, вот и хорошо, укрыло их белым саваном, покойно им там. Отпусти его, Санька, отпусти. Не себя, ни его не мучай.
Уже по хорошо выпавшему снегу, шла я в лес к деду. Долго он ко мне не являлся, не показывался, насилу нашла. При встрече услышала от него:
- Ты не бегай пока больше, снега скоро по колено будет, потом и по пояс. Пимы у тебя старые, да и зимой сплю я больше, отдыхаю. Присмотра меньше в лесу, привык уж спать.
- Дед, я и по снегу могу, обо мне не беспокойся, - сразу уверила я.
- Мне вообще тебя привечать не положено. Вот и весь сказ, - строго отрезал он.
Спорить же не станешь, в летах человек, да и совсем запуталась я кто он. Дедом для меня являлся, дед и есть. Сказку в этот день он показал опять недобрую, про двух старателей. Нашли они самородок огромный, что нести не могут. Первый говорит второму, чтобы тот домой за лошадью бежал. Второй домой убежал, лошадь запряг, да еды с собой взял, яду в нее положив. Увидел первый, подъезжающую лошадь, подбежал ко второму, ножом его и убил. Перед тем, как самородок грузить, поесть решил и отравился. Самородок тот камнем обычным обернулся.
От деда возвращалась грустная, от сказки худой или от того, что не знамо, когда увидимся, подружилась я с ним. Жизнь итак словно остановилась, а без него совсем тоска, отдушина он мне.
Накануне Заговенья бабушка в лавку сходить попросила, крупы ей на кашу принести. Я хотела поручить Васе, да передумала - сама пошла. Все Вася, да Вася, а о меня проку нет. Закупив, все что нужно, я вышла из лавки. Лошадь едет, упряженная санями, в которых восседал управитель. Шуба на нем барская, да шапка соболем тисненая. Наши взгляды встретились, а он кучеру тормозить приказал. Глаз я не отводила, не прятала - стояла, как параличом охвачена, с места сойти не могла. Вот он, враг мой. Вот она, причина бед моих.